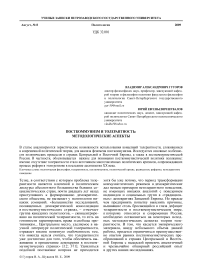Посткоммунизм и толерантность: методологические аспекты
Автор: Гуторов Владимир Александрович, Шувалов Юрий Евгеньевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются эвристические возможности использования концепций толерантности, сложившихся в современной политической теории, для анализа феномена посткоммунизма. Исследуются основные особенности политических процессов в странах Центральной и Восточной Европы, а также в посткоммунистической России. В частности, обосновывается важное для понимания посткоммунистической политики положение: именно отсутствие толерантности стало источником многочисленных политических кризисов, сопровождавших процесс реформ в этом регионе в последние десятилетия ХХ века.
Политическая философия, толерантность, политический кризис, радикализм, реформы, нетолерантное поведение, посткоммунизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14749622
IDR: 14749622 | УДК: 32.001
Текст научной статьи Посткоммунизм и толерантность: методологические аспекты
Тезис, в соответствии с которым проблема толерантности является ключевой в политическом дискурсе абсолютного большинства бывших социалистических стран, почти двадцать лет назад приступивших к формированию демократического общества, не вызывает у политологов никаких сомнений. «Большинство исследований, посвященных демократической консолидации в посткоммунистических странах, – отмечает группа канадских политологов, – сконцентрировано на политической толерантности, то есть на готовности гарантировать права и свободы противникам... Центральное место, уделяемое в научной литературе политической толерантности, отражает вполне понятную озабоченность тем, что никогда нельзя считать, что толерантности уже достаточно для того, чтобы обеспечить выживание и процветание демократии в посткоммунистических странах» [12; 371]. Удивляться подобной постановке вопроса не приходится
хотя бы уже потому, что период трансформации коммунистических режимов в демократические дал немало примеров нетолерантного поведения, не имеющих никаких аналогий с поведением индивидов и социальных групп в «традиционных» демократиях Западной Европы. Но прежде чем предпринять попытку выяснить причины, вызвавшие столь бросающийся в глаза дефицит толерантности в посткоммунистическом мире, к которому относится и современная Россия, необходимо остановиться на некоторых исходных методологических аспектах теории толерантности. В том, что касается эмпирического материала, ввиду небольшого объема данной работы, придется ограничиться преимущественно опытом ранних посткоммунистических преобразований в странах Центральной и Восточной Европы с надеждой привлечь аналогичный и чрезвычайно обширный российский опыт в других наших исследованиях.
В современной политологической литературе понятием «политическая толерантность» обычно характеризуется ситуация, при которой индивиды «полностью признают законные права гражданства для групп, к которым они сами не испытывают приязни» [30; 76]. Совершенно очевидно также, что концепция политической толерантности является производной от философской теории толерантности, уходящей своими корнями в традицию позднего Возрождения (Боден) и раннего Просвещения (Монтескье и Вольтер), но окончательно сложившейся в XIX веке в эпоху расцвета западноевропейского либерализма.
В обыденной речи терпимость в самом широком смысле понимается как способность что-либо переносить или претерпевать. В общественном контексте это понятие также часто употребляется для характеристики способности человека или группы сосуществовать с людьми, имеющими иные убеждения и верования. В третьем издании «Нового международного словаря» Уэбстера толерантность определяется как «демонстрация понимания и мягкости (leniency) по отношению к поведению или идеям, вступающим между собой в конфликт». Совершенно ясно, что между этими предельно общими определениями и теоретической моделью толерантности находится внушительная дистанция. Современные конфликты – внутренние и международные, в основе которых лежит нетерпимость религиозная или идеологическая, очень часто оцениваются в соответствии с критериями, сложившимися, прежде всего, в рамках концепций гражданского общества и толерантности. Например, на Западе конфликт в Косово или же политические процессы в посткоммунистической России легко объясняют отсутствием в обоих регионах сложившихся структур гражданского общества, что порождает нетерпимость и насилие. В свою очередь, нетерпимость западных демократий, например в отношении политики Югославии в Косово или России в Чечне, обусловлена помимо чисто прагматических соображений не только идеологическим принципом, предусматривающим приоритет прав человека над суверенитетом и территориальной целостностью той или иной страны, но имеет и определенное теоретическое обоснование. Речь идет о весьма своеобразном и не всегда логически корректном преодолении ультралибе-ральной трактовки толерантности как нейтральности. Насколько обоснованы такого рода концептуальные обобщения? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо еще раз остановиться на исходных принципах обеих концепций. Первоначально представляется более удобным продолжить обсуждение проблемы толерантности, поскольку очевидно, что в теоретической плоскости эта проблема позволяет более рельефно выявить новые аспекты современной концепции гражданского общества. Более того, в настоящее время теория толерантности даже в политических ее аспектах вполне может рассматриваться с известными оговорками как своеобразное введение к обсуждению концепции гражданского общества. Ведь исходным моментом западной модели толерантности является восходящая к традиции Просвещения трансформация представлений об отношениях государства и индивидов. Из этой трансформации возникли две принципиальные предпосылки: а) правительство обладает только ограниченной властью, источником которой является народ, представляющий собой корпорацию граждан; б) народ в качестве высшего суверена сам определяет свою судьбу.
Исходя из этих принципов, А. Мейклджон в своем знаменитом эссе «Свободная речь и ее отношение к самоуправлению» сформулировал идею толерантности следующим образом: свободная речь играет практическую роль в самоуправляющемся обществе, создавая основу для свободного обсуждения гражданами всех интересующих их вопросов. Свобода выражения необходима потому, что все сообщество заинтересовано в результатах принятых решений. Свобода слова основана, таким образом, на коллективном интересе, который состоит не только в том, чтобы каждый индивид имел свободу самовыражения, но и в том, чтобы все, заслуживающее быть выраженным, было высказано (см. [21; 24–26]). В соответствии с таким представлением государству запрещено вторгаться в ту сферу, где свобода выражения неотделима от выполнения гражданским коллективом своих суверенных функций.
Принцип самоуправления лежит в основе классической либеральной модели толерантности. Последняя предполагает существование равновесия между гражданским коллективом и государством.
Не меньшей популярностью у современных политологов пользуется и так называемая «модель крепости». Ее теоретические предпосылки (как и предпосылки классической модели) были разработаны еще в XIX веке. Суть ее состоит в следующем: современной концепции свободы, основанной на прогрессистской оптимистической идее исторической эволюции человечества от автократии к демократии, противостоят противоборствующие тенденции. Прежде всего, нигде и никогда не существует полной идентификации между гражданским коллективом и правительством. Антагонизм между ними в равной мере может возникать как в результате отхода правительства от своих демократических истоков, так и в случае возникновения ситуации, когда и правительство, и сам народ начинают представлять угрозу для принципов свободы и терпимости (см. об этом подробнее: [4; 76]). В теоретическом плане такого рода ситуация, как уже отмечалось выше, постоянно обсуждалась в политической теории XIX века, например А. де Токвилем и Д. С. Миллем, опасавшимися той угрозы, которую представляет для свободы «тирания большинства» в грядущих массовых демократиях. Как отмечал Милль в своем эссе «О свободе», поскольку возникшее в данный момент большинство «может испытывать желание подавлять одну из своих же собственных частей... предосторожности необходимы как против этого, так и против любого другого злоупотребления властью» [23; 6]. И Милль, и его младший современник У. Бэджхот, написавший в 1874 году эссе «Метафизическая основа терпимости», исходили из проверенной опытом максимы – нетерпимость и преследования изначально свойственны человечеству, поскольку они присущи ему по природе (см. [2; 220]). В XX веке проводимые специалистами по детской психологии эксперименты, связанные со сравнительным анализом нетерпимости у детей и взрослых, вполне подтвердили выводы Бэдж-хота о том, что нетолерантное поведение в обществе постоянно воспроизводится вследствие неистребимости инфантильных комплексов, порожденных потребностью в вере, священных обычаях и ритуалах, заменяющих рациональное обсуждение сложных общественных проблем [2; 220].
В этом плане суть «модели крепости» заключается также в том, чтобы создать систему законодательства, которая способна гарантировать свободу в случае возникновения любой из обозначенных выше опасностей. В наше время все больше стала ощущаться необходимость в разработке более основательной и логически непротиворечивой основы концепции толерантности. В связи с этим возникло множество попыток создания такой логической базы. Обсуждение степени их состоятельности не входит в предмет данного изложения. Представляется вполне разумным одно из базовых определений «истинной толерантности», предложенное Д. Буджишевс-ким: «Истинная толерантность... представляет собой особый случай того, что Аристотель называл практическим разумом... потому, что он связан со средствами и целями; специальным случаем потому, что его наиболее важная функция состоит в защите целей против претенциозных средств. Поскольку [такое положение] представляет собой явный парадокс, нет ничего удивительного в том, что оно вызывает недоумение» [6; 7]. Из данного определения вытекают следующие принципы, или «советы толерантности»:
-
а) истинно толерантный человек верит, что каждый вправе защищать при помощи рациональных аргументов свое понимание того, что является для индивидов благом, независимо от того, будет ли это понимание истинным или ложным, а также стремиться убедить других в том, что он прав;
-
б) ни один толерантный человек не будет терпеть действий, разрушающих внутреннее право выбора его самого и других;
-
в) конечный принцип толерантности состоит в том, что зло должно быть терпимо исключи-
- тельно в тех случаях, когда его подавление создает равные или большие препятствия к благам того же самого порядка или же препятствия ко всем благам высшего порядка [6; 11–13].
Последний принцип, вполне сопоставимый с критерием Парето, на наш взгляд, действительно выражает предельную степень толерантности. В глазах сторонников коммунитаристской трактовки толерантности этот принцип отражает исключительно индивидуальный подход и игнорирует принцип коллективного выбора группы. Представляется, однако, что принцип толерантности группы является производным от индивидуального выбора. Один из аспектов терпимости, между прочим, состоит именно в том, что толерантный индивид вправе игнорировать группу и даже все общество, противостоять им, но осуществлять это право не демонстративно и не из каких-либо своекорыстных побуждений, поскольку зло само по себе не является целью его поведения.
Проблема коллективного и группового выбора является тем не менее чрезвычайно важной, когда сам выбор вызван необходимостью осуществления широкомасштабных социальных реформ. В начале 1990-х годов перед таким выбором оказались страны, отбросившие социалистические принципы и вновь вступившие на капиталистический путь развития.
В политическом плане в условиях всеобщей эйфории 1989–1990 годов повсеместный крах режимов советского типа, произошедший в ходе парламентских выборов, рассматривался как в самом регионе, так и на Западе сквозь призму исторического поражения «социалистической левой». Сами результаты выборов в большинстве бывших коммунистических стран (за исключением Болгарии, Румынии и Югославии), как казалось тогда, указывали на то, что как концепция социализма, так и любой социалистический вариант развития не могут найти более поддержки ни в настоящем, ни в будущем [27].
Вместе с тем, несмотря на убедительную победу политических партий и блоков под националистическими и демократическими знаменами, главные социальные, политические и психологические характеристики основной гражданской массы новых восточноевропейских демократий далеко не всегда соответствовали соотношению сил победивших блоков и социалистической оппозиции в парламентах. На протяжении всего первого пятилетнего цикла левые силы продолжали сохранять устойчивые позиции в постсоциалистических обществах на уровне социальных структур и электората. Этому способствовали сами обстоятельства и характер проводимых в рамках данного цикла реформ, а также устойчивые традиции прошлого.
Программы и политику новых партий вряд ли можно рассматривать сквозь призму классических дихотомий, характерных для партийных систем Западной Европы: левые – правые, капи- талистические (буржуазные) – пролетарские, богатые – бедные, сельские – городские, христианские – светские, этатистские – антиэтатист-ские, националистические – интернационалистские и т. д. [14]. Для прежней коммунистической системы была характерна атомарная, диффузная социальная структура [20]. Сама специфика процесса социальной рестратификации в постреволюционных обществах, отсутствие влиятельных групп интересов, опирающихся на массовую базу, существенно затрудняли артикуляцию политических предпочтений избирателей.
Вместе с тем поведение электората определяли факторы гораздо более глубокого порядка. Развитие в направлении «социально ориентированной рыночной экономики», декларированное в программах реформаторов первой волны, сразу обнаружило большое количество кричащих парадоксов. Например, радикальные экономические реформы и приватизация, создание доходных государственных и частных предприятий, формирование новой экономической элиты, увеличение спроса на рабочие места и так далее возможны только в случае, если политическая система в состоянии справляться с первичными непосредственными последствиями начавшихся реформ – резким снижением жизненного уровня и социальной дезинтеграцией, вызванными радикальной трансформацией социалистической экономики и общественных структур. Государство должно изыскивать ресурсы для смягчения и компенсации самых тяжелых социальноэкономических потерь. Наследие социалистического государственного патернализма с его специфической комбинацией авторитаризма и политики, направленной на обеспечение и поддержание благосостояния (welfare politics), постоянно приводило к конфликту укоренившихся на протяжении десятилетий ожиданий и надежд на помощь государства для поддержания стабильного уровня потребления с политикой либерализации, не предусматривавшей создание соответствующих государственных фондов.
«Конфликт ожиданий» во многом углублялся возникновением новых форм социальной дискриминации, связанных с трансформацией бюрократического социализма и его властных структур. Под аккомпанемент широко разрекламированной в СМИ кампании по декоммунизации десятки тысяч представителей номенклатуры высшего и среднего звена, используя тайные и явные финансовые ресурсы, личные связи и хорошее знание столичной, региональной и местной конъюнктуры, переместились из партийных кресел на места руководителей банков, совместных и частных предприятий, составив основу нового «кадрового капитализма». Такого рода метаморфоза резко контрастировала с потерей огромным числом граждан в результате приватизации и рационализации производства работы или многих преимуществ, связанных в прошлом с высокой квалификацией или акаде- мическим образованием. Другие группы населения – пенсионеры, многодетные семьи, безработные, матери-одиночки – были вообще отброшены процессом модернизации до уровня ниже прожиточного минимума. Обширный слой низкооплачиваемых государственных служащих подвергся серьезной дискриминации. Бедность как фактор социальной жизни развивалась на фоне расцвета афер «новых богачей», спекулянтов, мафиозных организаций, получавших огромные полулегальные и прямо незаконные доходы и обладавших большим влиянием практически во всех посткоммунистических обществах [22; 20].
В различных формах такого рода тенденции имели место в большинстве посткоммунистических стран, и они не могли не повлиять на характер формирующейся новой политической культуры и особенности развития политических процессов. Специалисты выделяют следующие особенности современной политической культуры в посткоммунистической Центральной и Восточной Европе: 1) преобладание профессиональных политиков; 2) низкий уровень политического участия; 3) широко распространенные политическая апатия и стремление замкнуться в частной жизни (приватизм); 4) тенденция к авторитаризму, выражающаяся как в латентных, так и в открытых формах [22; 27].
Вторая и третья особенности, естественно, связаны друг с другом. Статистика голосования свидетельствует о существовании устойчивых социальных групп (от 30 до 48 %), не принимающих участия в местных и национальных выборах. Эти группы особенно велики в Польше, Венгрии и Словакии. Попытки объяснить такую пассивность традициями репрессивного авторитарного правления в соединении с крайне тяжелыми социально-экономическими условиями, отбросившими большие социальные группы до положения маргиналов, борющихся за выживание, не могут не встретить понимания. Гораздо труднее объяснить вполне реальные авторитарные тенденции в посткоммунистических странах при помощи ссылок на предшествующие методы господства и управления.
Прежде всего, история всех без исключения революционных периодов трансформаций экономических и социально-политических систем свидетельствует о резком возрастании авторитарных начал в политической жизни, когда сосредоточение власти и контроля в руках небольших группировок амбициозных политиков, стремящихся укрепить свое достаточно шаткое положение «жесткими мерами» и безудержной пропагандой популистского толка, является именно нормой, а не исключением. Так или иначе, именно эти тенденции привели к резкому снижению уровня толерантности в большинстве посткоммунистических стран. Решающую роль в этом плане играла кампания по «декоммунизации», проводимая с разной степенью интенсивности во всех странах Цент- ральной и Восточной Европы и имевшая для них различные последствия.
Как известно, в Чехословакии и ГДР крах коммунистических режимов произошел настолько неожиданно, что, в отличие от Польши (где летом 1989 года между коммунистическим руководством и оппозицией, вероятно, было заключено «джентльменское соглашение», препятствующее в будущем охоте на коммунистов), никаких предварительных договоренностей относительно будущей судьбы партийных функционеров заключено не было.
В октябре 1991 года чешский федеральный парламент принял закон, запрещавший определенным категориям граждан, включая партийных функционеров (начиная с городского уровня), агентов и сотрудников государственной службы безопасности и др., занятие выборных или назначаемых общественных или профессиональных постов в государственных организациях или в смешанных компаниях, в которых государство было держателем основного пакета акций, сроком на пять лет. 9 июля 1993 года чешский парламент принял закон, объявлявший коммунистический режим «незаконным». В законодательстве были сняты ограничения, препятствующие преследованию за преступления, совершенные с 1948 по 1989 год. По общим оценкам, под действие этого закона подпадало приблизительно 2000 граждан [5], [25]. Необходимо отметить, что вышеупомянутый закон о люстрации 1991 года был воспринят как слишком строгий даже политиками – выходцами из диссидентских кругов (включая Федерального президента В. Гавела). Обычно утверждали, что только события августа 1991 года в СССР могут частично объяснить резкий поворот от умеренной версии к столь обширной и излишне ригористичной [32; 421].
Как только официальные чехословацкие СМИ начали в 1991 году шумную кампанию в поддержку закона о люстрации, леволиберальная газета «Мlada fronta Dnes» (MFD) опубликовала драматическую статью-комментарий, в которой был поставлен своеобразный диагноз всей политике Гражданского форума (OF) – движения, инициировавшего «бархатную революцию». Статья имела название «Диагноз ОF: политическая шизофрения». «...Атмосфера последних съездов ОF, – утверждалось в статье, – определялась радикальными представителями из провинциальных кругов, а также теми, кто занял освободившиеся места, после того как в государственном управлении сменилась первая волна представителей ОF... Политика высшего эшелона ОF, состоящего из писателей, журналистов, актеров, исполнителей модных песенок и других приверженцев антиполитики… разочаровывает все большее количество граждан, а также простых избирателей». Основная проблема ОF состоит в том, что «свободно организованный политический клуб давно является анахронизмом», но «политическое руководство ОF, оглушенное успехом июньских выборов 1990 года, решило эту проблему игнорировать» [19].
В статье МFD была дана вполне определенная характеристика положения, которое в целом можно было определить как отсутствие какой-либо определенной концепции декоммунизации чехословацкого общества. Даже само понятие «декоммунизация», судя по декларациям политических партий и групп и многочисленным публикациям в прессе на эту тему, было крайне смутным. Для радикальных антикоммунистических групп, таких как Клуб ангажированных беспартийных (КАN) или Антикоммунистический альянс (АА), декоммунизация означала всеобщую «проверку на лояльность» чуть ли не всех «носителей идеологии» старого режима или даже просто симпатизировавших ему. Для прагматично настроенных реформистов, особенно из кругов экономических экспертов, часть которых примкнула к ОF (В. Клаус, Т. Йежек, В. Длуги и др.), декоммунизация означала просто чистку государственного аппарата от старых номенклатурных кадров. И, наконец, существовал левый вариант («позитивная программа») декоммунизации, выдвигавшийся реформистски настроенными диссидентами с коммунистическим прошлым (например, З. Млынарж). Под ней подразумевалась дебольшевизация и десталинизация, отказ от концепции руководящей партии и принятие идеи частной собственности и парламентской демократии [3; 164–165].
Развязанная правыми радикалами кампания за принятие закона о люстрации в конечном итоге способствовала более тесным контактам левых партий между собой (Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Коммунистическая партия Словакии, И. Свитак, З. Млынарж и др.), а также усиливала стремление последних начать переговоры с более умеренными демократами, ориентирующимися не на сиюминутные лозунги, а на долговременные цели (см. [13]). Например, один из ведущих представителей движения «Общественность против насилия» министр внутренних дел и будущий руководитель Словакии – В. Мечиар – предложил либо сжечь основные документы Службы безопасности, либо законсервировать ее архивы на несколько десятилетий, начав строительство демократии «с нуля». Его мнение, однако, не было самым авторитетным даже в рамках его организации. Однако дискуссия о люстрации перекинулась на Словакию и приняла там весьма острую форму, породив даже слухи о готовящемся «левом путче» типа 1948 года и т. д. В марте 1991 года впервые ясно обнаружилась тенденция к союзу «Платформы за демократическую Словакию» В. Ме-чиара и словацких националистов. В свою очередь, слухи о «путче» усилили позиции сторонников люстрации и декоммунизации, подтолкнув принятие соответствующего закона в октябре 1991 года. Начавшаяся кампания в поддержку люстрации, совпав с проведением в жизнь радикальной программы рыночных реформ (автором которой был В. Клаус – нынешний президент Чехии и тогдашний лидер Гражданской демократической партии) со всеми ее последствиями, постепенно стала подрывать позиции бывших диссидентов. Умеренные демократы все больше предпочитали ориентироваться на создание нового альянса, формируемого из представителей старого коммунистического истеблишмента и руководителей СМИ. В. Гавел подписал закон, выразив одновременно свое недовольство его жестокостью, между тем как символ «пражской весны» 1968 года, председатель парламента А. Дубчек отказался поставить свою подпись, усмотрев противоречие между законом о люстрации и уже ратифицированным парламентом списком индивидуальных прав и свобод. Позиция А. Дубчека в дальнейшем была поддержана международными организациями по правам человека и Советом Европы, справедливо усмотревшим в чехословацком и во многом аналогичном ему болгарском люстрационных законах применение архаического критерия коллективной вины по отношению к коммунистическим чиновникам [3; 170], [32; 415].
Анализируя кампании по декоммунизации в странах Центральной и Восточной Европы и общий тон прессы и телевидения, следивших за развернувшимися многочисленными скандалами, которые усиливали ажиотаж, но одновременно и неясность подхода к самой проблеме, большинство нейтрально настроенных аналитиков постоянно подчеркивают крайне отрицательный травмирующий характер, который эта кампания имела для общественного сознания и политического дискурса. «После “нежной революции”, – отмечает Ю. Балаж, анализировавший кампанию по люстрации в Чехословакии, – настало время нежной юстиции Линча» [3; 181]. Е. Ковач, специально изучившая роль венгерских СМИ в борьбе за «восстановление справедливости», также отмечала избирательный подход к проблеме ответственности за прошлое. «Тогдашняя госбезопасность, тайная служба режима Кадара и советская армия, – писала она, – были объектом для обсуждения в СМИ, тогда как нацистское прошлое или вина режима Хорти в период между двумя войнами замалчивались» [15; 120]. Такого рода избирательность в конечном счете ударила рикошетом по самим СМИ. Когда в связи со скандалом, разгоревшимся после показа отснятого оппозиционной группой кинематографистов фильма «Черный ящик» (январь 1990 года), стало ясно, что новое коммунистическое правительство сохранило, несмотря на многочисленные декларации, тайную службу безопасности и ведет слежку за политиками из новых оппозиционных партий, в Венгрии началась подлинная «охота на ведьм», в том числе после опубликования так называемого «списка III/III», содержавшего имена бывших агентов.
Предложенный фракцией Венгерского демократического форума «план правосудия» (август 1990 года) резко «перевел стрелку» политического дискурса из сферы «исторической ответственности» и «восстановления справедливости» в сферу юридических преследований, которым могли подвергнуться (в силу крайней растянутости «плана») 80 тыс. членов ВСРП.
В ноябре 1991 года после жаркой телевизионной дискуссии между представителями Венгерского форума и ВСРП по поводу венгерского варианта «закона о люстрации» (проект Зетеньи – Такача) президент А. Гонт отправил этот проект в Конституционный суд для проверки его законности. Когда в марте 1992 года суд признал проект антиконституционным, активисты Венгерского форума развязали в СМИ кампанию, предметом которой была легитимность самого Конституционного суда. Вслед за этим, контролируя телевидение и радио, правительство развязало новую истерическую кампанию по проверке «чистоты прессы», вернее, тех газет, которые не разделяли официальную позицию. В результате «проверка прессы» и люстрация составили в политическом дискурсе как бы единый комплекс. Обсуждение темы декоммунизации приняло ритуализированный характер, появились новые «герои», «еретики» и «ренегаты». «Дискуссии в СМИ формировали разнообразные роли, которые повышали эмоциональный индекс скандала» [15; 129]. В конечном итоге решение оказалось соломоновым: венгерский парламент принял в марте 1994 года закон, предписывавший обследование государственных деятелей высшего ранга на предмет сотрудничества с секретными службами и участия в репрессиях 1956 года, но фонды архивов госбезопасности были опечатаны (как и в Болгарии, Польше и Румынии) на несколько десятков лет (в Венгрии до 1 июля 2030 года).
Почти идентичные результаты декоммунизации в большинстве посткоммунистических стран свидетельствовали, что она может рассматриваться, в известном смысле, скорее как «эмоциональный проект» [8; 162]. Вместе с тем нельзя недооценивать влияние этих кампаний как на общественное сознание, так и на социально-политические институты, включая СМИ. В 1996 году немецкий политолог Г. Фер, подводя итоги декоммунизации в Польше, дал следующее ее определение: «Конфликт, связанный с декоммунизацией в Польше, свидетельствует о наличии у него символических и стратегических параметров. Декоммунизация является составной частью политической борьбы новых элит, направленной на создание основ изменившейся политической среды (Umwelt) в результате проведенной в 1989 году смены системы. Речь идет о семантических стремлениях (semantische Bestrebungen) политических акторов равным образом запечатлеть новые содержательные значения справедливости, права и политического прошлого. С этим связана и другая предпосылка, освещающая стратегические параметры политического дискурса: декоммунизация и “люстрация” являются составными частями стратегии мобилизации политических элит и партий в конкурентной борьбе за влиятельные позиции в общественной и политической жизни Польши» [8; 135].
Быстрая смена различных образцов и подходов к декоммунизации в польском обществе также свидетельствует о том , что эти кампании имели во всех странах идентичную внутреннюю логику: начинаясь с вполне мирных заявлений, они в дальнейшем, по мере нарастания конфликтов, превращались в обличительный и разоблачительный шквал взаимных обвинений только для того, чтобы в конце концов «уйти в песок», оставив за собой многочисленные следы ненависти в травмированном общественном сознании.
Словесная агрессия в тот период стала обычным оружием всех политических сил, оскорбления и инсинуации – чрезвычайно заурядным явлением, свидетельствующим о низких стандартах общественного поведения и моральном уровне политических оппонентов. Само понятие «оппонент» стало звучать в СМИ, в парламенте и в предвыборных плакатах как «враг», с той, конечно, разницей, что «политические враги, которые в коммунистические времена должны были быть прежде всего уничтожены, сегодня должны быть оклеветаны и оскорблены» [8; 157].
В итоге все подобные «идеологические послания» (см. [29; 425]), окрашенные во все цвета популистско-агрессивной риторики, проникли практически во все сферы общественной жизни и сознания, затронув даже такой оплот польской исторической традиции и культуры, как католическая церковь [31], [28]. Если в самом начале кампании «нормальной» дихотомией считалось противопоставление «мы», то есть сообщество «католических поляков», и «они» – «люди коммуны» [16], [17], [7], то в дальнейшем многие католики в соответствии с логикой декоммунизации оказались в противоположном лагере в связи с тем, что понятие «коммунист» расширилось чрезвычайно. «Образ врага» воплотился в понятиях тайных коммунистов, посткоммунистов, католических левых и просто левых [9; 158]. Комментируя такие расширительные толкования, польский публицист М. Фик писала в «Gazeta Wyborcza»: «В этом смысле каждый может превратиться в коммуниста: тот, кто выступает против введения религиозного образования в школах, не говоря уже о тех, кто был против законодательства, запрещающего аборты... Сегодня коммунистом может быть мистик; человек, который в другой стране и в другое время считался бы вполне подходящим, может стать коммунистом. Любой, кто поддерживает зарубежный или польский капитал или даже их обоих, может стать коммунистом. Коммунист может принадлежать к любому типу идеологи- ческой партии или он может вообще не принадлежать ни к какой партии» [10; 9].
В польской печати после 1991 года такие нейтральные прежде слова, как христианин, церковь, католик, священник, орден или духовенство, приобрели негативный смысл. Священников стали называть черными в противоположность красным [26; 158] . Особую роль в анти-католической пропаганде играл еженедельник «Nie», издаваемый Е. Урбаном – известным экспертом по массовой пропаганде, названным публично «Геббельсом периода чрезвычайного положения» (начало 1980-х годов).
Подвергаясь атакам справа и слева, католические газеты, по мнению польских аналитиков, также вышли из границ нейтральности, заняв «воинствующую или даже фундаменталистскую позицию» [9; 158]. «В Польше продолжается битва, – писала католическая газета “Niedziela” (“Неделя”), – она происходит в центре Европы, и мы защищаем главные позиции христианства. Если мы уступим, кто остановит наступающий атеизм?» [24].
Промежуточный финал кампании по декоммунизации, в которую включились и католические силы, был курьезным. Резюмируя итоги политической борьбы накануне парламентских выборов в сентябре 1993 года, принесших победу партиям социалистической ориентации, один из наиболее рьяных приверженцев декоммунизации В. Гржановский отмечал с известной долей иронии: «Декоммунизация не играла никакой значительной роли даже среди католиков в ходе выборной кампании. Когда люди живут в тяжелых условиях, такого рода акции теряют свою грузоподъемность» [11].
Заключительным аккордом разыгравшейся в Польше грандиозной политической комедии можно считать политическую борьбу между Л. Валенсой и А. Квасневским на президентских выборах осенью 1995 года. Предвыборная кампания в печати вышла за рамки даже тех этических норм, которые установились после 1991 года. Обе стороны обвиняли в печати друг друга в коррупции. Главный (и небезосновательный) расчет Валенсы заключался в том, что антикоммунистические организации Польши, в том числе и бывшие сторонники из левого и правого крыльев Солидарности, забудут перед лицом угрозы победы социалистов старые обиды и разногласия и поддержат его на выборах. Когда эти надежды частично оправдывались и рейтинг Валенсы поднялся накануне 19 ноября 1995 года до 51 % (5 ноября – 33 % против 35 % у Квасневского), воодушевленный президент принял вызов своего соперника, потребовавшего двух телевизионных дебатов [18].
Валенса впервые принял участие в подобных открытых теледебатах 3 ноября 1988 года. Его оппонентом был тогда глава официальных польских профсоюзов, член политбюро ПОРП А. Ме-дович. Вопреки расчетам руководства партии на то, «что в теледискуссии один на один, без помощи советников и помощников, косноязычный электрик Валенса проиграет инженеру Медови-чу и тем самым окончательно явит себя в качестве “марионетки в руках антисоциалистических сил”» [1], первому удалось одержать в дебатах, которые смотрели 75 % взрослого населения страны, хотя и не блестящую, но все же победу.
На этот раз теледебаты обернулись для Валенсы настоящей катастрофой. Он никогда не умел налаживать связи со СМИ, даже в годы своей наивысшей популярности. Эти контакты были поручены Д. Држичимскому, малоизвестному преподавателю высшей школы, необщительному и грубому по своему характеру. «Држичимский общался со СМИ, потому что он должен был делать это, а не потому, что он этого хотел» [33; 118]. Перед телевизионной камерой Валенса всегда держался неуклюже, в то время как «Квасневский был, молод, строен, обладал хорошими манерами и был противником, умевшим с большим искусством играть перед камерой» [33; 121].
Во время первой встречи Валенса вел себя воинственно и грубо, ограничившись перед миллионами телезрителей давно набившей оскомину, и к тому же неуклюжей, антикоммунистической риторикой. Квасневский, наоборот, вел себя достойно, был сдержан, проявлял большую информированность и явно демонстрировал перед зрителями стремление к примирению. Под конец дебатов Квасневский почтительно протянул Валенсе руку, которую он отказался пожать, в оскорбительной форме предложив «пожать свою ногу» молодому посткоммунистическому лидеру. Уже после первых теледебатов Квасневский мог позволить себе открыто назвать себя победителем, заявив в интервью, что «Польша не заслуживает президента, который выражается по-скотски» [33; 121].
Результаты выборов 19 ноября 1995 года полностью подтвердили этот прогноз. Они показали, что толерантное поведение вкупе с умением использовать СМИ в соответствующем направлении стало важнейшим фактором, обеспечивающим успех в политических баталиях в посткоммунистических странах.
Приведенные выше примеры свидетельствуют не только о том, какую роль играет современная теория толерантности для адекватной характеристики эволюции политического процесса в странах Центральной и Восточной Европы в недавнем прошлом, но и весьма рельефно оттеняют политическую ситуацию в современной посткоммунистической России. На наш взгляд, Россия, несколько раньше, еще в эпоху «перестройки», приступив к реализации программы широкомасштабных реформ, оказалась на сегодняшний день в положении «застревающей страны», так и не сумевшей не только освоить практику развитых демократий, но и со всей серьезностью подойти к оценке отнюдь не тривиального опыта своих бывших западных сателлитов. Именно этим объясняется атмосфера исключительной нетерпимости, проявляемой на каждом шагу отечественными политиками как правой, так и левой ориентации в отношении друг друга. Сумеет ли российская политика стать толерантной? Именно с решением этого вопроса связана перспектива ее демократизации и выхода на новые цивилизационные рубежи.
Работа выполнена при поддержке Федеральной программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)» в рамках гранта «Современные концепции политического образования: Запад и Россия (опыт сравнительного анализа)». Рег. номер: 2.1.3/4708.
Список литературы Посткоммунизм и толерантность: методологические аспекты
- Васильцов С., Обухов С. Коварные овалы «круглого стола». Европейский опыт политического диалога оппозиции и «партии власти»//Советская Россия. 23.10.1997. С. 4.
- Bagehot W. The Metaphysical Basis of Toleration//The Works and Life of Walter Bagehot. Oxford, 1915. Vol. 6. P. 220.
- Balaz J. Eine sanfte Dekommunisierung? Der Lustrationsdiskurs nach der «sanften Revolution» in den tchechischen und slowakischen Medien//Oeffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identitaet. Institutionenbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa in memoriam Gabor Kiss. Berliner Schriften zur Politik und Gesellschaft im Sozialismus und Kommunismus/Hrsg. von Krisztina Maenicke-Gyongyosi. Bd. 9: Peter Lang, 1996.
- Bollinger L.C. The Tolerant Society. Oxford, 1986. P. 76 sqq.
- Bren P. Lustration in the Czech and Slovak Republic//RFE/RL Reseach Report. 1993. 2, 16 July. P. 16-22.
- Budziszewski J. True Tolerance. Liberalism and the Necessity of Judgement. New Brunswick; London, 1992.
- Dunn K., Krasko N. Nieprawica//Cudze problemy/M. Czyzewski, K. Dunn, A. Pietrowski (eds.). Warszawa, 1991. P. 158 sqq.
- Fehr H. Dekommunisierung und symbolische Politikmuster in Polen//Oeffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtingkeit, politische Verantwortung und nationale Identitaet. Institutionenbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa. In memoriam Gabor Kiss. Berliner Schriften zur Politik und Gesellschaft im Sozialismus und Kommunismus/Hrsg. von Krisztina Maenicke -Gyongyosi. Bd. 9: Peter Lang, 1996.
- Fras J. Political Discourse as an Expression of the Polish Political Culture after 1989//The Political Culture of Poland in Transition.
- Gazeta Wyborcza. 13-14.07.1991.
- Gazeta Wyborcza. 6-7.11.1993.
- Gueran D., Petry F., Crete J. Tolerance, Protest and Democratic Transition: Survey Evidence from 13 PostCommunist Countries//European Journal of Political Research. 2004. May. Vol. 43. № 3.
- Kabele J. Ceskoslovensko na ceste od Kapitalismu ke Kapitalismu//Sociologicky casopis. 1992. H. 1. S. 4-22.
- Kitsche1t H. The Formation of Party Systems in East Central Europe//Politics and Society. 1992. № 1. P. 7-50.
- Kovacs E. J. Hütchenspiel. Ausschlussverfahren bei den Mediendiskursen uber die «Restitution von Gerechtigkeit» in Ungarn 1990-1992//Oeffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtingkeit, politische Verantwortung und nationale Identitaet. Institutionbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa. In memoriam Gabor Kiss. Berliner Schriften zur Politik und Gesellschaft im Sozializmus und Kommunismus/Hrsg. von Krisztina Maenicke -Gyongyosi. Bd. 9: Peter Lang, 1996.
- Kowalski S. Solidarnose Polska. Warszawa, 1988. S. 28 sqq., 34 sqq.
- Kowalski S. Prawo naturalne jako Kategoria dyskursu publicznego//Cudze problemy/M. Czyzewski, K. Dunn, A. Pietrowski (eds.). Warszawa, 1991. P. 258-264.
- Kwasniewski A. Potrzebna Debata//Polityka. 11.11.1995. P. 16.
- Leschtina J., Marek T., Sabata P. Diagnoza OF: politicka Schizofrenie//Mlada fronta Dnes. 11.01.1991.
- Löw K. Totalitäre Elemente im originaeren Marxismus//Totalitarismus/Hrsg. von Konrad Löw. 2 Aufl. Berlin, 1993. D. 185 sq.
- Meiklejohn A. Free speech and Its Relation to Self-Government//Political Freedom: The Constitutional Powers of The People. New York, 1948.
- Meyer G. Towards a Political Sociology of Postcommunism: the Political Culture of East Central Europe on the Way to Democracy//The Political Culture of Poland in Transition/Ed. by Anrzej W. Jablonski and Gerd Meyer. Wroclaw, 1996. P. 20 sqq.
- Mills J.S. On Liberty/Ed. by C. V. Shields. New York, 1956.
- Neidziela. 11.04.1993.
- Obrman J. Czech Parliament Declares Former Communist Regime Illegal//RFE/RL Reseach Report. 1993. 2, 13.08. P. 6-10.
- Puzynina J. Co jiezyk mowi o wattosciach wspolczesnych Polakow//Ethos. 18-19. 1993. S. 215-227.
- Racz B., Kukorelli I. The «Second-Generation» Post-communist Elections in Hungary in 1994//Europe-Asia Studies. Formerly Soviet Studies. 1995. Vol. 47, 2. P. 251-280.
- Schimmelfenning F. International Relations and Political Culture: International Debate and Transition to Democracy in Poland//The Political Culture of Poland in Transition/Ed. by Andrzej W. Jablonski and Gerd Meyer. Wroclaw, 1996. P. 65-84.
- Simons H.W., Mechling E.W. The Rhetoric of Political Movements//Handbook of Political Communication/Ed. by D. D. Nimmo & K. R. Sanders. London, 1987.
- Sullivan J.L., Piereson J.E., Marcus G.E. Political Tolerance and American Democracy. Chicago, 1982.
- Wehling H.-G. A Historical and Regionalist Approach: National and Regional Dimensions of Polish Political Culture//The Political Culture of Poland in Transition/Ed. by Andrzej W. Jablonski and Gerd Meyer. Wroclaw, 1996. P. 53-64.
- Welsh H.A. Dealing with the Communist Past: Central and East European Experiences after 1990//Europe-Asia Studies. Formerly Soviet Studies. 1996. Vol. 48, 3.
- Zubek V. The Eclipse of Walesa’s Political Career//Europe-Asia Studies. Formerly Soviet Studies. Vol. 49. 1, January 1997.