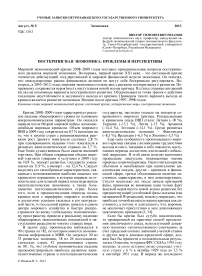Посткризисная экономика: проблемы и перспективы
Автор: Рязанов Виктор Тимофеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.
Бесплатный доступ
Мировой экономический кризис 2008-2009 годов поставил принципиальные вопросы посткризисного развития мировой экономики. Во-первых, первый кризис XXI века - это системный кризис элементов действующей государственной и мировой финансовой модели экономики. Он показал, что международные рынки финансовых активов не могут себя бескризисно регулировать. Во-вторых, в 2010-2012 годах мировая экономика столкнулась с рисками посткризисного развития. По-прежнему сохраняется вероятность наступления новой волны кризиса. В статье отражен авторский взгляд на возможные варианты посткризисного развития. Обосновывается точка зрения о действии тенденции неустойчивого и медленного выхода из кризиса. Примером такого варианта выхода из кризиса является развитие экономики Японии после кризиса 1997-1998 годов.
Мировой экономический кризис, системный кризис, антикризисные меры, посткризисная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/14750467
IDR: 14750467 | УДК: 330.3
Текст научной статьи Посткризисная экономика: проблемы и перспективы
Кризис 2008–2009 годов характеризует реальное падение общемирового уровня по основным макроэкономическим параметрам. Он оказался первым после Второй мировой войны полномасштабным мировым кризисом. Объем мирового ВВП в 2009 году сократился на 0,7 % несмотря на то, что в группе стран с развивающимися рынками рост данного показателя составил 2,8 % при одновременном падении этого показателя в развитых капиталистических странах на 3,7 %. Еще более существенным было сжатие внешней торговли. При общем сокращении объема мировой торговли товарами и услугами в 2009 году на 10,9 %, экспорт развитых государств уменьшился на 11,9 %, а импорт – на 12,4 %. Следует выделить его своеобразные характеристики, связанные с возникновением наиболее опасных зон кризисного поражения, в которые впервые за относительно длительный период попали развитые капиталистические экономики, а также большинство постсоциалистических стран. Более того, если в предшествующие периоды волны кризиса шли с периферии мирового хозяйства и достаточно успешно гасились в его центральной части, то последний кризис начался в самом центре мирового хозяйства и быстро распространился по всему глобальному экономическому пространству, приведя к реальному падению общемировых экономических показателей и наступлению рецессии во многих странах мира.
В целом спад производства наблюдался в 90 странах из 182, по которым имеется экономическая информация в МВФ. Он затронул 30 из 33 развитых экономик, 18 из 26 постсоциалистических стран, 42 развивающиеся страны из 101. То, что глубокое экономическое падение продемонстрировали наиболее развитые капиталистические страны и постсоциалистические государства, наглядно указало на эпицентр современного мирового кризиса. Рекордсменами в кризисном спаде ВВП стали: Латвия (–18 %), Украина (–15,1 %), Литва (–15 %), Армения (–14,4 %), Эстония (–14,1 %). Среди развитых капиталистических экономик – Финляндия (–8,5 %), Ирландия (–6,5 %) и Япония (–5,5 %).
Еще одна особенность произошедшего мирового кризиса связана с возникшими трудностями выхода из него, таящими в себе опасность наступления периода достаточно длительной глобальной депрессии. В этой связи полезно вспомнить прошедшие дискуссии, посвященные оценке природы и причин кризиса. Одни считали кризис обычным и неизбежным при капитализме циклическим спадом, другие – кризисом в финансовой сфере, третьи обосновывали наличие системных характеристик, в нем доминирующих. Спустя несколько лет после начала кризисной фазы, принимая во внимание один только факт высокой вероятности новой волны рецессии без предшествующей устойчивой фазы подъема (так называемой W-рецессии), можно утверждать, что наиболее точной является оценка кризиса как системного, а потому и длительного, что, впрочем, не исключает присутствия в нем дополняющих циклических признаков [1; 34].
Если бы кризис был сугубо циклическим, то проверенный на практике способ преодоления циклического спада, использующий денежную политику «количественного смягчения» за счет предельно низких значений учетной ставки и других мер в денежно-кредитной сфере, должен был бы привести к положительным результатам. Отметим, что ранее ФРС США в 1930 году впервые за свою историю резко сокращал учетную ставку с 6 % в октябре 1929 года до 1,5 % в сентябре 1931 года. В период же последнего кризиса она была уменьшена с 5,25 % (сентябрь 2007 года) до 0,00–0,25 % с марта 2009 года, действуя по настоящее время. Что же касается ЕЦБ, то с ноября 2008 года ставка рефинансирования с 3,25 % последовательно сокращалась до 1 % в мае 2009 года. Затем в апреле – июле 2011 года она повышалась до 1,25–1,5 %. С декабря 2011 года ставка рефинансирования вновь опустилась до 1,0 %, в июле 2012 года – до 0,75 % и с мая 2013 года была установлена в размере 0,5 %. Однако рекордно низкое значение учетной ставки, введенное в большинстве развитых стран и действующее уже длительный период времени, не смогло вывести их в фазу устойчивого роста.
Что значит кризис системный? В первую очередь речь идет о сформировавшейся до кризиса экономической модели, по своим главным параметрам и целям ориентированной на достижение краткосрочной выгоды – экономической и политической – практически всеми субъектами рыночной экономики. Это равнозначно стремительному разрастанию роли спекулятивного фактора в современной рыночной экономике, не ограниченного фактически никакими экономическими и этическими рамками. Возникновение преимущественно спекулятивной экономической модели стало результатом серьезной внутренней перестройки и одновременно привело к многочисленным переменам в ее функционировании.
Финансовые рынки, утратив связь с производственно-потребительской экономикой, закономерно приобрели чрезмерно возросшие риски, обусловленные высокой степенью их неустойчивости и подверженностью сильным колебаниям. Разрешить эту ключевую слабость их функционирования действующая до кризиса модель хозяйствования пыталась традиционным для рыночного фундаментализма способом – через активное подключение рынка. В этих целях создаваемые многочисленные производные финансовые инструменты должны были обеспечить надежное перестрахование финансовых операций.
Считалось, что при помощи рынка удастся ограничить и переложить риск на рынок за счет манипулирования и несовпадения интересов и действий участников, уступающих и принимающих дополнительные риски. Отсюда и стремительное и бесконтрольное нарастание объема используемых деривативов с полным отрывом их от реальных (обеспеченных) активов. Так, рынок одного из наиболее распространенных финансовых инструментов – кредитных свопов (CDS), фактически страховок от дефолта, оценивается в диапазоне от 33 трлн до 80 трлн долл. При этом общий объем рынка производных инструментов, по оценкам, достигает 677 трлн долл., что в 12 раз больше мирового ВВП. (В 1990 году их объем определялся в 3,5 трлн долл.)
Высокие риски при возникновении пирамиды деривативов обусловлены двумя их принципи- альными отличиями от других ценных бумаг. Во-первых, их торговля осуществляется в основном в режиме внебиржевых сделок, что ведет к бесконтрольности в наращивании эмиссии бумаг. Во-вторых, в их обороте отсутствует надежное страховочное обеспечение. По сути дела, это долги, которые не подкреплены реальными активами. С этим связано возникновение ключевого противоречия современной финансомики между остающимися ограниченными материальными ресурсами и возможностью создания фактически неограниченного объема финансовых ресурсов за счет расширяющегося и усложняющегося рынка деривативов. Поэтому при развале такой пирамиды чрезвычайно сложно провести необходимую санацию через погашение «плохих» активов и на этой основе оздоровить финансовую систему с восстановлением доверия к ней. Произошедший крах деривативной пирамиды напоминает разгорающийся пожар, в котором никак не обнаружить очаг возгорания.
Образование спекулятивной модели экономики предопределило значительный сдвиг в экономическом поведении институциональных инвесторов и широкого круга экономических агентов, включая домашние хозяйства, которые все в возрастающей степени в своих действиях ориентированы на достижение краткосрочных выгод. Модель предпринимателя-инноватора, как ее формулировал Й. Шумпетер, сменила модель предпринимателя-спекулянта, озабоченного использованием «новых комбинаций» исключительно ради стремительного финансового обогащения.
Глубина и масштабность кризиса особо значимой делает проблему обоснования антикризисных мер. Если сопоставить начальную фазу падения промышленного производства в 2008– 2009 годах с аналогичной фазой в период Великой депрессии (1929–1933 годы), то оказывается, что линии спада в первые девять месяцев практически полностью совпали. Это означает, что опасность перерастания кризиса 2008–2009 годов в вариант Великой депрессии-2 была весьма вероятна. Поэтому реализуемая антикризисная политика может оцениваться как относительно успешная. Правда, нельзя забывать о важности учета другого ее критерия, связанного с выводом кризисной экономики в фазу устойчивого экономического роста. Как раз по этому критерию проводимую антикризисную политику нельзя считать эффективной. Последнее обстоятельство тем более важно, поскольку приближение очередного циклического кризиса, а его можно ожидать уже в 2014 году, в условиях продолжения действия системных ограничений чревато наступлением нового и, не исключено, масштабного мирового кризиса.
Вопрос об эффективности антикризисной политики имеет ключевое значение на совре- менном этапе. В этом случае можно выделить два принципиально различающихся подхода к ее проведению. Первый подход – это политика блокирования кризиса с сохранением основ экономического устройства глобального хозяйственного пространства. Второй – преодоление кризиса с устранением коренных причин, его породивших, и, в конечном счете, – со сменой типа хозяйственного устройства мировой экономики и национальных хозяйственных систем как ее неотъемлемых компонентов (см. [3; 13–32]).
Системная природа нынешнего мирового кризиса получила дополнительное подтверждение в неоднозначном характере посткризисного развития ведущих экономик мира (табл. 1). С одной стороны, статистика зафиксировала выход из кризиса по показателям ВВП и промышленного производства с III квартала 2009 года (в США) и с IV квартала данного года в большинстве развитых стран. Но последующие события свидетельствовали о том, что произошел всего лишь восстановительный краткосрочный отскок, который не закрепился переходом в фазу поддерживающего, а тем более устойчивого экономического роста.
Таблица 1
Прирост (падение) реального ВВП в 2007– 2012 годах (по данным Госкомстата РФ, Евростата, Всемирного банка)
|
Регион |
Год |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
ЕС-27 |
3,2 |
0,3 |
–4,3 |
2,1 |
1,5 |
–0,3 |
|
Еврозона (17) |
3,0 |
0,4 |
–4,4 |
2,0 |
1,4 |
–0,6 |
|
Германия |
3,3 |
1,1 |
–5,1 |
4,2 |
3,0 |
0,7 |
|
Франция |
2,3 |
–0,1 |
–3,1 |
1,7 |
1,7 |
–0,1 |
|
Англия |
3,6 |
–1,0 |
–4,0 |
1,8 |
0,9 |
0,0 |
|
Италия |
1,7 |
–1,2 |
–5,5 |
1,7 |
0,4 |
–2,4 |
|
США |
1,9 |
–0,3 |
–3,5 |
2,4 |
1,8 |
2,2 |
|
Япония |
2,2 |
–1,0 |
–5,5 |
4,7 |
–0,6 |
2,0 |
|
КНР |
14,2 |
9,6 |
9,2 |
10,3 |
9,2 |
7,8 |
|
РФ |
8,1 |
5,2 |
–7,8 |
4,5 |
4,3 |
3,4 |
Многие эксперты в момент выхода из кризиса прогнозировали последовательное улучшение посткризисной ситуации в развитых странах. Этот прогноз не подтвердился. В анализируемый период наблюдалось не просто затухание экономического роста, но и фактическое вхождение ЕС в 2012 году в ситуацию рецессии, если опираться на ее стандартные характеристики. Заметим, что ранее ведущаяся дискуссия о вероятности второй волны кризиса фактически нашла свое подтверждение применительно к странам ЕС. Причем происходящие процессы в этой зоне указывают на то, что в ней негативный тренд продолжит свое действие, а нижняя точка в рецессии еще не достигнута.
Экономическое положение в США более благоприятное. Во всяком случае, фаза экономического оживления в 2012 году продолжилась. По-видимому, это объясняется тем, что американская экономика раньше других вступила в кризис и потому ожидаемо может раньше из него выйти. Еще более существенным моментом является то, что антикризисная политика в этой стране при всех внутриполитических ограничениях и партийной борьбе, связанных с ее проведением, демонстрирует большую результативность в сравнении с ЕС. В этом проявляется достоинство использования апробированных методов государственного регулирования, имея в виду обеспечение большей оперативности и гибкости, а также накопленный опыт. Интеграционный блок такими качествами не располагает из-за несовпадения экономических интересов его участников и трудно согласуемых антикризисных мер. Аналогичными недостатками в еще большей степени характеризуется деятельность институтов глобализации, призванных осуществлять регулятивную функцию на всем глобальном пространстве (см. [2; 3–21]).
Важной характеристикой произошедшего мирового кризиса является значительно более масштабное падение в секторе реальной экономики в сравнении с падением ВВП. В этом нетрудно убедиться, если сопоставить данные по ВВП, к примеру, с данными по промышленному производству (табл. 2). Падение промышленного производства в развитых странах в 2–3 раза превышало аналогичное значение уменьшения ВВП. Это означает, что динамика показателя ВВП в действительности скрывает истинные масштабы кризисного падения. Поэтому для более достоверной оценки макроэкономической ситуации, особенно в периоды спада, особое значение приобретают показатели развития реального сектора экономики, и прежде всего инвестиционно-промышленная и аграрная деятельность. С этими показателями в большей степени коррелируются показатели уровня занятости и реальных доходов, динамика экономической активности и состояние спроса и т. п., которые раскрывают особенности складывающейся конъюнктуры на разных фазах экономического цикла.
Таблица 2
Прирост (падение) промышленного производства в 2007–2012 годах (по данным Госкомстата РФ, Евростата, Всемирного банка)
|
Регион |
Год |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
ЕС-27 |
3,7 |
–1,7 |
–13,7 |
6,9 |
3,2 |
–3,3 |
|
Германия |
6,1 |
–0,1 |
–16,3 |
10,9 |
8,9 |
–0,8 |
|
Франция |
1,3 |
–2,8 |
–12,5 |
5,2 |
1,6 |
–2,2 |
|
Англия |
0,3 |
–3,1 |
–10,0 |
2,7 |
–0,6 |
–2,3 |
|
Италия |
1,8 |
–3,5 |
–18,8 |
6,7 |
0,1 |
–6,5 |
|
США |
–1,7 |
–2,0 |
–11,4 |
5,4 |
4,1 |
3,6 |
|
Япония |
1,3 |
–2,0 |
–21,3 |
16,0 |
–2,5 |
–1,0 |
|
КНР |
13,4 |
9,3 |
9,9 |
11,0 |
13,0 |
9,5 |
|
РФ |
7,4 |
3,5 |
–9,3 |
8,2 |
4,7 |
2,6 |
Как оценить перспективы экономического развития мировой экономики в посткризисный период? Прежде всего следует подчеркнуть чрезвычайную сложность прогнозирования будущего развития. В экономической сфере действует множество разнонаправленных факторов, а сама она находится под влиянием различных неэко- номических обстоятельств, и варианты ее развития зависят от управленческих решений.
Выделим три ранее наблюдаемых варианта посткризисного развития. Первый вариант можно представить в виде «U». Это нормальная модель быстрого преодоления стандартного циклического кризиса, характеризуемого масштабным нарушением сбалансированности спроса и предложения. В качестве его характерного примера приведем кризис в США 1920–1921 годов. В этот период произошло падение производства на 12 %, а безработица достигла на пике кризиса заметной величины в 11,2 %. Однако благодаря быстрому устранению возникших перекосов на товарных рынках и рыночной санации неэффективных производств с неэффективным менеджментом этот кризис был быстро преодолен и уже в 1923 году производство, доходы и зарплата превысили докризисный уровень. При этом безработица сократилась до 1,3 % трудоспособного населения.
Второй вариант можно представить в виде «W». Это модель повторного (двухфазового) кризиса. Самым ярким примером ее действия стала Великая депрессия (1929–1932), когда падение производства составило 44 %, а безработица достигла 13 млн человек (или 24 % трудоспособного населения). Для этого кризиса еще более характерным оказалось наступление по- сле короткого периода оживления второй волны кризиса (1937–1939). Производство сжалось на 20 %, а безработица вновь увеличилась с 6 до 10,5 млн человек, или на 19 % трудоспособного населения.
Третий вариант можно представить в виде «V→». Для него характерно неполное посткризисное восстановление с последующей стагнацией. И у этого варианта есть соответствующий пример. Он касается современного экономического развития Японии. Экономическое развитие этой страны после так называемого «азиатского кризиса» (1997–1998) вступило в полосу неустойчивого развития с чередованием коротких периодов оживления и медленного роста (2004–2007) и наступлением последующей рецессии (2011– 2012). Экономика в этот период практически не развивалась.
Сравнивая предложенные варианты посткризисного развития, можно предположить, что на данном этапе третий вариант является наиболее вероятным, он фактически и реализуется. Уйти от него в будущем, избежать и других возможных неблагоприятных сценариев развития событий можно в том случае, если будет проведено масштабное реформирование сложившейся еще до кризиса хозяйственной модели, а значит, будут устранены системные риски и угрозы для экономического развития.
POST-CRISIS ECONOMY: PROBLEMS AND PERSPECTIVIES
Список литературы Посткризисная экономика: проблемы и перспективы
- Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки для глобального кризиса. М.: Международные отношения, 2010. 324 с.
- Рязанов В. Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота?//Вестник СПбГУ Серия 5: Экономика. 2009. Вып. 1. С. 3-21.
- Рязанов В. Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной экономической нестабильности//Вестник СПбГУ Серия 5: Экономика. 2012. Вып. 2. С. 13-32.