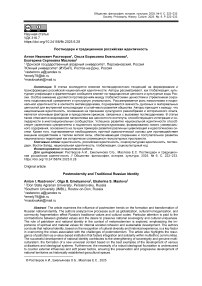Постмодерн и традиционная российская идентичность
Автор: Растворов А.И., Емельянова О.Б., Маслова Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние постмодернистских тенденций на формирование и трансформацию российской национальной идентичности. Авторы рассматривают, как глобализация, культурная унификация и фрагментация сообществ влияют на традиционные ценности и культурные коды России. Особое внимание уделяется противоречиям между глобалистскими ценностями и стремлением сохранить национальный суверенитет и культурную уникальность. Рассматривается роль патриотизма и национальной идентичности в контексте метамодернизма, подчеркивается важность духовных и материальных ценностей для внутренней консолидации и устойчивого развития общества. Авторы приходят к выводу, что национальная идентичность, основанная на признании культурного разнообразия и исторического опыта, является ключевым фактором в преодолении кризисов, связанных с вызовами постмодернизма. В статье также отмечается возрождение патриотизма как ценностного института, способствующего интеграции и солидарности в многонациональных сообществах. Успешное развитие национальной идентичности способствует укреплению суверенитета и подлинного мультикультурализма, формированию нового универсального содержания, основанного на лучших примерах развития различных цивилизаций и идеологических систем. Кроме того, подчеркивается необходимость прочной идеологической основы для противодействия внешним воздействиям и тактики мягкой силы, обеспечивающей сохранение и поступательное развитие национальных территорий как исторически сложившихся геокультурных пространств.
Идентичность, российская идентичность, социокультурная идентичность, постмодерн, Восток-Запад, национальная идентичность, глобализация, социокультурный код
Короткий адрес: https://sciup.org/149148214
IDR: 149148214 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.28
Текст научной статьи Постмодерн и традиционная российская идентичность
Современная российская культура находится в состоянии сложного взаимодействия между традиционными ценностями и глобальными постмодернистскими трендами. Постмодерн как культурологический феномен стал причиной глубоких трансформаций во многих сферах человеческой жизнедеятельности. Изменения затрагивают ключевые аспекты российской культурной идентичности, включая восприятие исторической памяти, роль религиозных символов, трансформацию этнических традиций, формирование новых форм коллективного сознания. Анализ этих процессов требует применения культурологических методов, которые позволяют рассмотреть, как конкретные практики постмодерна влияют на культуру.
Особую актуальность приобретает исследование взаимодействия постмодерна с российской культурой в условиях, когда глобализация с цифровизацией усиливают конфликты между локальными и универсальными ценностями. Например, в сфере искусства наблюдается синтез традиционных мотивов с постмодернистскими техниками, такими как коллаж, ирония, межтекстуальность. Фестивали современного искусства демонстрируют, как российские художники переосмысливают национальные архетипы через призму глобальных дискурсов. Но все эти процессы сопровождаются критикой со стороны консервативных кругов, которые рассматривают такие практики как угрозу культурной самобытности.
В области образования постмодерн проявляется в переходе от авторитарных методов преподавания к диалоговым формам. Благодаря интернету появляются сомнительные специалисты, которые без подтвержденной квалификации вводят в заблуждение людей, а иногда и преднамеренно лгут ради того, чтобы увеличить число просмотров. Это вызывает дискуссии о сохранении национального культурного кода в учебных программах.
Аналогичные противоречия наблюдаются в медиасфере, где социальные сети и стриминговые платформы создают пространство для гибридных идентичностей, но одновременно усиливают фрагментацию общественного мнения. Например, популярные блогеры часто сочетают элементы русского фольклора с западными «мемами», создавая новые формы культурной коммуникации, которые сложно классифицировать в рамках традиционных категорий.
Культурологический подход также позволяет рассмотреть, как постмодерн влияет на повседневные практики. Современные россияне, особенно молодое поколение, адаптируют традиционные обряды, например, свадьбы или празднование Масленицы, под требования цифровой эпохи: онлайн-трансляции, виртуальные подарки, использование хэштегов. Это создает парадокс: с одной стороны, сохраняется связь с историческим наследием, с другой ‒ формируется новый тип культурной активности, ориентированный на глобальные тренды. Постмодерн в российской культуре проявляется как сложный синтез традиций и инноваций, где глобальные тренды адаптируются к местным условиям.
В российском контексте уникальность ситуации заключается в том, что постмодерн сталкивается с культурой, где коллективные идентичности исторически формировались через религию, государство и общность. Эти элементы остаются важными для значительной части населения, но их интерпретация меняется. Например, православие сегодня не ограничивается церковной практикой: оно проникает в моду, дизайн интерьеров, даже в стрит-арт, создавая новые культурные тексты, которые требуют анализа через призму культурологии.
Национальная идентичность представляет собой совокупность ценностей, которые объединяют социальные общности. В современном мире она переживает возрождение, обусловленное многочисленными вызовами, такими как фрагментация территорий, разрушение полиэтничных государств, потеря суверенитета, утрата культурного единства, а также снижение значимости национальных культурных кодов из-за глобализации. Постмодернизм, с его акцентом на изменчивость идентичности, породил кризис, лишив индивида прочной духовной основы. Это сделало человека легко внушаемым, что в условиях современности только усиливает запрос на стабильность, солидарность, единство.
Инструментарий постмодернизма, вместо того чтобы преодолеть вызванные глобализацией кризисы, усугубил противоречия. Среди них главное – конфликт между диктатом глобалистских ценностей и стремлением народов к независимому развитию. В ответ на это возрос интерес к национальной идентичности как системе ценностей, способной объединить общество, укрепить суверенитет и сохранить культурную самобытность.
В контексте данных трендов развития самобытных локальных цивилизаций в современном мире целесообразно поставить проблему: как повлиял постмодерн на нашу традиционную российскую идентичность? Для ответа на этот вопрос необходимо решить следующие задачи:
1. Определить, что такое идентичность. 2. Уточнить, как философия постмодерна трактует это понятие. 3. Установить, как соотносятся основные параметры общества постмодерна с чертами традиционного российского общества: совместимы ли они, и как культура постмодерна влияет на российскую традиционную идентичность.
Для решения этих задач в нашей работе применяется цивилизационный подход к понятию идентичности, сравнительно-исторический метод при анализе соотношения культуры постмодерна и традиционной российской идентичности, а также метод критического анализа и сравнения российской и западной социокультурной идентичности.
Как концепт, идентичность представляет собой сложный синтез индивидуального и коллективного самовосприятия, формирующийся в процессе взаимодействия личности с социальными, культурными и историческими контекстами. Ее изучение уходит корнями в философские дискуссии о природе «Я»: еще Рене Декарт, утверждая «Cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую») (Декарт, 2017), заложил основы понимания субъективности как ядра идентичности. Однако современное представление о ней кристаллизовалось лишь в XX в., когда психология, социология и философия начали рассматривать идентичность не как статичную данность, а как динамический процесс. Европейские исследователи сыграли ключевую роль в переосмыслении этого феномена, связав его с социальными практиками, языком и властными структурами. Эрик Эриксон, вводя термин «кризис идентичности», акцентировал ее психосоциальную природу: по его мнению, идентичность формируется через преодоление внутренних конфликтов на разных этапах жизни, где общество задает рамки для самоопределения (Эриксон, 2000). Социологи Джордж Герберт Мид и Чарльз Кули развили идею «зеркального Я», подчеркивая, что наше представление о себе возникает через интерпретацию реакций окружающих ‒ таким образом, идентичность становится продуктом диалога между индивидом и социумом (Кули, 1996; Мид, 1996).
Перелом в понимании идентичности произошел с приходом постструктурализма и постмодернизма, подвергших сомнению идею устойчивого, целостного «Я». Жан-Франсуа Лиотар, критикуя «метанарративы» Просвещения, указал на распад универсальных истин, что привело к фрагментации идентичностей в условиях плюрализма культур (Лиотар, 1998). Жак Деррида, де-конструируя бинарные оппозиции (например, «свой» vs «чужой»), показал, что идентичность всегда контекстуальна и лишена фиксированной сущности ‒ она существует лишь в различии, в постоянном отталкивании от «другого» (Деррида, 2000). Мишель Фуко, анализируя связь власти и знания, раскрыл, как институты ‒ от медицины до образования ‒ конструируют идентичности через дискурсы, маргинализируя те, что не вписываются в норму (Фуко, 2016). Жан Бодрийяр, говоря о гиперреальности и симулякрах, описал идентичность в эпоху постмодерна как набор масок, лишенных подлинности: в мире, где медиа и потребление заменяют реальность образами, самоидентификация становится игрой с культурными кодами (Бодрийяр, 2017).
Эти идеи получили развитие в работах Зигмунта Баумана, который ввел метафору «текучей современности»: в условиях глобализации и цифровизации идентичность утрачивает стабильность, превращаясь в перформативный акт, требующий постоянного выбора и адаптации. Социальные сети, например, превращают саморепрезентацию в бесконечный поток «сторис» и «аватаров», где идентичность дробится на множество ситуативных версий (Бауман, 2008). В постмодернистской культуре эта идея расширяется: этническая, профессиональная, даже экзистенциальная идентичности все чаще воспринимаются как нарративы, которые можно переписывать, смешивать или отвергать.
Исторически акцент на идентичности как проблеме возник из кризиса традиционных структур ‒ семьи, религии, нации, ‒ которые ранее задавали четкие рамки для самоопределения. Урбанизация, миграция, мультикультурализм и цифровые технологии усложнили эту картину: индивид оказался в пространстве множественных, порой противоречивых идентификаций. Если модерн стремился к унификации (гражданин, работник, член семьи), то постмодерн легитимизирует гибридность ‒ например, культурную идентичность мигранта, балансирующую между «здесь» и «там». Однако эта свобода сопряжена с экзистенциальной тревогой: отсутствие «якоря» ведет к ощущению потерянности.
Сегодня идентичность в культуре постмодерна ‒ это пазл, собираемый из обломков традиций, медийных образов, субкультурных символов и личного опыта. Она полифонична, изменчива и зачастую парадоксальна: можно одновременно идентифицироваться с глобальным экологическим движением и локальными практиками, с цифровым сообществом геймеров и этнической диаспорой. Европейские исследователи продолжают спорить о последствиях этой трансформации. Одни, как Славой Жижек, видят в распаде идентичностей угрозу солидарности (Жижек, 2010), другие, как Рози Брайдотти, ‒ возможность для эмансипации через номадическое мышление1. Ясно одно: идентичность больше не данность, а вопрос выбора, переговоров и воображения, зеркало, в котором отражается хаотичная, но пленительная сложность нашего времени.
Идентичность - это подвижный процесс самовосприятия, в котором человек определяет себя через взаимодействие с окружающим миром. Она не имеет фиксированного ядра, а возникает на стыке внутреннего опыта и внешних влияний: личных ценностей, культурных норм, исторических событий и даже технологических изменений. Это постоянный диалог между тем, кем мы себя ощущаем, и тем, как нас видят другие, между стремлением к уникальности и потребностью принадлежать к чему-то большему. Идентичность похожа на реку, которая сохраняет название, но никогда не останавливается - ее течение меняется, вбирая новые воды, размывая старые берега, но оставаясь узнаваемой в своих изгибах.
Социокультурная идентичность - это часть общего потока, где индивидуальное «Я» сливается с коллективным «Мы». Она формируется через усвоение языка, традиций, ритуалов и негласных правил, которые диктует общество. Человек примеряет социальные роли (родитель, профессионал, гражданин) как маски, но каждая из них оставляет след в его самоощущении. Однако это не просто копирование шаблонов - в процессе возникают конфликты: молодежь переосмысливает устоявшиеся стереотипы, мигранты смешивают обычаи родины и новой страны, цифровые поколения создают виртуальные аватары, которые живут по законам лайков и хештегов. Социокультурная идентичность - это вечный компромисс между принятием правил игры и попыткой их переписать.
Цивилизационная идентичность - это миф, ставший реальностью. Большие сообщества -нации, религиозные группы, империи - сплачиваются вокруг общих символов: побед прошлого, образа врага, мечты о будущем. Такая идентичность дает ответы на экзистенциальные вопросы (Кто мы? Зачем существуем?), но ее устойчивость иллюзорна. Цивилизации, как гигантские организмы, переживают кризисы: глобализация стирает границы, миграция создает гибридные культуры, а технологии заменяют живые ритуалы цифровыми симуляциями. Например, некогда монолитные представления о «национальной гордости» сегодня дробятся: одни видят ее в военных парадах, другие - в экологических инициативах или IT-стартапах. Цивилизационная идентичность - это попытка удержать расплывающуюся реальность в рамках общего нарратива, даже если он существует лишь в виде мемов, политических лозунгов или ностальгических фильмов.
По нашему мнению, идентичность - это история, которую мы рассказываем себе и миру, чтобы не потеряться в хаосе существования. Она соткана из воспоминаний, страхов, надежд и случайностей. Идентичность не укладывается в рамки одного определения: сегодня ты «патриот», завтра - «гражданин мира». Социокультурная идентичность - глава этой истории о принадлежности, где ты учишься быть «своим» в толпе. Цивилизационная - сага, где твоя жизнь становится строчкой в летописи народа. Но в конечном счете идентичность - это не ответ, а вопрос, который мы задаем каждый раз, глядя в зеркало (а в эпоху постмодерна не только в зеркало, но и в экран телефона): «Кто я сейчас и кем могу стать завтра?».
Интересна реакция российских философов на западный постмодерн. А.С. Панарин в «Православной цивилизации в глобальном мире» критиковал западный индивидуализм и предлагал альтернативу - евразийскую идентичность, основанную на синтезе религий и коллективизме (Панарин, 2003). Однако Г.С. Померанц, в «Выходе из транса» называл такие идеи «имперским ре-сентиментом», утверждая, что подлинная идентичность рождается не из противостояния Западу, а из диалога культур (Померанц, 2010).
Западные теории постмодерна, при всей их глубине, часто игнорируют культурный контекст незападных обществ. Да, идентичность стала гибкой, но в России эта гибкость накладывается на травмы XX в.: распад СССР, кризис доверия к институтам, страх перед глобализацией. С одной стороны, цифровизация дает свободу самовыражения. С другой - эта свобода превращается в «идентификационный аутизм»: человек теряет связь с реальными сообществами, заменяя их симулякрами. Лайки и репосты становятся новой религией, в которой идентичность сводится к поиску одобрения.
Однако отрицать влияние западных ценностей бессмысленно - они уже часть российской повседневности. Задача, на наш взгляд, не в том, чтобы выбирать между «своим» и «чужим», а в том, чтобы найти баланс. Можно быть одновременно IT-специалистом, интегрированным в глобальные тренды, и волонтером, сохраняющим локальные традиции.
Некоторые западные теории, такие как концепция Баумана о «текучести», рискуют стать оправданием социальной апатии. Если «все течет», то зачем бороться за что-то? В России же, где коллективная идентичность исторически играла ключевую роль, полный отказ от «мы-нарра-тивов» может привести к атомизации общества. Но и консервативный поворот к «традиционным ценностям» часто выглядит бутафорским - государство может копировать ритуалы прошлого, но не предлагает образа будущего.
По мнению Д.А. Давыдова, западные прогрессивные дискурсы слились в идеологию, служащую экспрессивному индивидуализму и интересам угнетенных групп. Философские идеи модерна не могли сами по себе породить автономную личность и экспрессивный индивидуализм. Всему виной рост материальной независимости и развитие коммуникационных технологий, именно они способствовали этому процессу. Политика идентичности ведет к новым иерархиям жертв и культуре жертвенности (Давыдов, 2024).
Д.А. Давыдов также рассматривает тренинги по осознанию «хрупкости белых», которые, по мнению Р. ДиАнджело, свидетельствуют о том, что все белые - расисты (Давыдов, 2024: 58). Эти тренинги напоминают практики осознания первородного греха. Консервативные критики во-укизма проводят аналогии с религиозной верой, где пробуждение становится образом жизни.
Трансформация идентичности в постмодерне - это вызов и возможность. Вызов - не потеряться в потоке симулякров, не дать алгоритмам соцсетей или политическим технологам конструировать наше «Я» вместо нас.
В условиях постмодернистского культурного ландшафта, где плюрализм, фрагментация и релятивизм становятся доминирующими чертами, вопрос о российской социокультурной идентичности приобретает исключительную актуальность. Постмодерн, с его акцентом на деконструкцию универсальных нарративов и признание множественности идентичностей, создает значительные вызовы для традиционных представлений о российской самобытности, исторически опиравшихся на устойчивые ценности, такие как православие, коллективизм и державность.
Б.Н. Буйло в своих работах акцентирует внимание на евразийской идентичности России, рассматривая ее как синтез восточных и западных начал, объединенных духовной основой (Буйло, 2022). В статье «Евразийская идентичность России в философских и социально-политических взглядах евразийцев» он подчеркивает, что евразийцы видели Россию как уникальный культурный субъект, противостоящий гегемонии романо-германского мира. Б.Н. Буйло отмечает, что евразийцы отвергали насильственную европеизацию, начатую Петром I, считая ее угрозой национальной самобытности. Вместо этого они предлагали модель, в которой Россия-Евразия объединяет народы на основе православия и идеала справедливого общества. В другой статье, «Особенности российской ментальности: истоки и культурные традиции» (Буйло, 2014), Б.Н. Буйло ссылается на Н.А. Бердяева, который рассматривал Россию как место пересечения Востока и Запада, где противоречия между коллективизмом и индивидуализмом, государственностью и анархизмом формируют уникальный менталитет. Б.Н. Буйло подчеркивает, что Н.А. Бердяев видел в духовности и универсализме ключ к преодолению этих противоречий, предостерегая против буржуазных ценностей, которые могут разрушить единство народов России.
На наш взгляд, подход Б.Н. Буйло ценен своим акцентом на синтезе культурных традиций, что особенно актуально в постмодернистском контексте, где границы между идентичностями размываются. Его анализ евразийской концепции убедительно показывает, как Россия может сохранять свою уникальность, не отвергая полностью западные влияния. Однако мы считаем, что Б.Н. Буйло недостаточно учитывает динамику постмодернистских изменений. Например, евразийская модель, опирающаяся на православие, может быть ограниченно применима к современному обществу, где религиозность среди молодежи снижается, а западные ценности, такие как индивидуальная свобода и плюрализм, становятся частью повседневной жизни. Согласимся с Б.Н. Буйло в том, что духовность остается важным элементом российской идентичности, но полагаем, что она должна адаптироваться к постмодернистским реалиям, включая диалог с секулярными и глобальными ценностями. Подход Н.А. Бердяева, акцентирующий универсализм, кажется нам более гибким, так как он позволяет интегрировать западные идеи без потери национального ядра. Тем не менее предостережение Н.А. Бердяева против буржуазности требует переосмысления: в постмодернистском мире материальные ценности не обязательно разрушают духовность, а могут сосуществовать с ней при условии осознанного баланса.
А.Ф. Поломошнов, А.В. Лыкова и Т.В. Лугуценко в статье «Проблема социокультурной идентичности российской цивилизации» предлагают систематический анализ пяти моделей идентичности: моноредукционистской, диады, дуально-антиномичной, триады и полиэлементной (Поломошнов и др., 2024). Авторы утверждают, что наиболее релевантной является модель триады, включающая державность, духовность и соборность как интегральные инварианты российской цивилизации. Моноредукционистская модель, по их мнению, слишком упрощает идентичность, сводя ее к одной черте, например, автократии, что игнорирует комплексность цивилизации. Модель диады ограничивается двумя чертами, такими как коллективизм и православие, что также недостаточно для полного описания. Дуально-антиномичная модель, разработанная авторами, подчеркивает противоречия между традиционными и либеральными ценностями, но авторы критикуют ее за акцент на негативных аспектах и отсутствие интеграции. Полиэлементная модель стремится к всестороннему описанию, но рискует утратить целостность из-за избыточной детализации. Триада, по мнению авторов, оптимальна, так как она выделяет устойчивые инварианты, которые адаптируются к историческим изменениям, сохраняя единство идентичности.
Мы высоко оцениваем стремление А.Ф. Поломошнова, А.В. Лыковой и Т.В. Лугуценко к синтезу, который учитывает историческую устойчивость и динамику идентичности. Их выбор триады как базовой модели кажется обоснованным, поскольку державность, духовность и соборность действительно отражают ключевые аспекты российской цивилизации. Державность, понимаемая как сильное государство, служащее обществу, соответствует исторической роли России как центра консолидации народов. Духовность, связанная с православием и гуманизмом, подчеркивает нравственные ориентиры, которые остаются актуальными даже в постмодернистском контексте. Соборность, акцентирующая коллективные интересы и межэтническую гармонию, отвечает на вызовы плюралистического общества. Однако считаем, что авторы недооценивают влияние постмодернизма на эти инварианты. Например, державность в условиях глобализации и роста индивидуализма может восприниматься как ограничение личной свободы, что требует ее переосмысления в сторону большей открытости и диалога с гражданами. Духовность, хотя и остается ядром идентичности, должна учитывать секулярные тенденции и включать светские формы гуманизма, чтобы быть релевантной для молодежи, воспринимающей западные ценности. Соборность, в свою очередь, должна адаптироваться к постмодернистскому признанию множественности идентичностей, чтобы избежать риска этнического или культурного исключения.
Россия, рассматриваемая как уникальный мост между Востоком и Западом, наследница византийской традиции, представляет собой сложный цивилизационный организм, синтезирующий земледельческие и кочевые элементы, православие и другие конфессии, а также взаимодействие восточных и западных начал. В своих работах А.С. Панарин развивает концепцию евразийской идентичности, акцентируя внимание на балансе шести разнонаправленных элементов, включая архетипические фигуры Жреца, Пахаря и Воина, символизирующие различные мировоззренческие подходы к государственности и внешнему миру (Панарин, 2005). Особое значение придается многоконфессиональности, подчеркивается важность гармоничного сосуществования православия и ислама, но с предостережением против этноцентрической интерпретации православной идеи, угрожающей межрелигиозному равновесию. Амбивалентность российской идентичности, неспособной полностью отождествиться ни с Востоком, ни с Западом, создает уязвимости в периоды геополитической нестабильности, как отмечает Панарин. Сохранение цивилизационной миссии, связанной с защитой православия и уникальных ценностей, он считает ключом к предотвращению распада государства в условиях постмодернизма, разрушающего традиционные устои. Подход А.С. Панарина ценен акцентом на синтезе культурных традиций, что актуально в постмодернистском контексте с его проницаемыми границами идентичностей, но его романтизация евразийской исключительности ограничивает применимость идей в условиях глобализации. Современные молодые люди активно интегрируют западные ценности - индивидуальную свободу, права человека, технологический прогресс, - которые Панарин рассматривает с настороженностью. Его акцент на православной миссии может быть недостаточно гибким для учета секулярных тенденций, хотя предостережение о рисках утраты идентичности в условиях культурной гомогенизации остается актуальным. Разделяя убежденность Панарина в необходимости сохранения цивилизационного ядра, однако считаем, что оно должно адаптироваться к современным реалиям через диалог с глобальными ценностями.
В постоянном напряжении между традиционными ценностями и либеральным миром Россия предстает как промежуточная цивилизация, где внутренний раскол и исторические метания формируют ее идентичность. Дуальность, подчеркиваемая А.С. Ахиезером, проявляется в стремлении к модернизации при сохранении приверженности традициям, что порождает хроническую нестабильность (Ахиезер, 2022). Конфликт между архаическими и современными элементами А.С. Ахиезер рассматривает в качестве источника не только слабостей, но и потенциала. Его подход точно фиксирует амбивалентность российской идентичности, заметную в деба- тах о путях развития, особенно в постмодернистском контексте, где глобальные тренды сталкиваются с локальными традициями. Аналитическая глубина концепции А.С. Ахиезера заслуживает высокой оценки, но его пессимизм, акцентирующий конфликт, недооценивает возможности синтеза. Современное общество демонстрирует способность интегрировать западные ценности ‒ рационализм, права личности ‒ без полного отказа от коллективизма и духовности. Модель А.С. Ахиезера могла бы быть дополнена анализом продуктивных аспектов дуальности, позволяющих адаптироваться к глобальным вызовам, сохраняя уникальность. Западные идеи толерантности и плюрализма, например, могут усилить традицию межконфессионального согласия, создавая основу для инклюзивной идентичности. Диагностика А.С. Ахиезера ценна, но требует оптимистического переосмысления в свете современных реалий.
Синтез ордынских и византийских влияний формирует уникальную российскую идентичность, где западные и восточные элементы сосуществуют, но не сливаются в единое целое. Историческая преемственность, проявляющаяся в государственности и культурных практиках, подчеркивается И.Г. Яковенко, развивающим идеи А.С. Ахиезера (Яковенко, 2017). Амбивалентность, сочетающая азиатскую стойкость и европейскую традицию, создает напряжение из-за разобщенности этих элементов. Подход И.Г. Яковенко ценен благодаря исторической глубине и признанию сложности идентичности, формировавшейся под влиянием различных цивилизационных потоков. Ордынская и византийская традиции, как показывает И.Г. Яковенко, проявляются в сильной государственной вертикали и духовных ориентирах. Однако степень интеграции этих влияний в повседневной жизни недооценивается: молодежь активно использует западные технологии и культурные продукты, сохраняя традиционные практики, такие как семейные собрания и взаимопомощь. Это свидетельствует о динамичной эволюции идентичности, что Яковенко недостаточно учитывает. Его модель могла бы быть дополнена анализом того, как постмодернистские реалии способствуют переплетению влияний, создавая гибридную идентичность. Западная открытость, например, может усилить способность к межкультурному диалогу, сохраняя национальную уникальность.
Дуальность российской идентичности, где православие выступает цивилизационной основой, а пограничность ‒ геополитическим фактором, формирует ее уникальность. Вера, как подчеркивает И.В. Кондаков, создает культурный код, отличающий Россию от других цивилизаций, тогда как географическое положение между Востоком и Западом порождает возможности и вызовы (Кондаков, 2010). Кризисы идентичности Кондаков связывает с внутренними и внешними противоречиями. Его акцент на духовных и геополитических аспектах заслуживает признания, поскольку православие действительно влияет на ценности и поведение россиян. Однако модель И.В. Кондакова узка, она недооценивает секулярные тенденции постмодернистского мира. Молодежь, под влиянием западного секуляризма, воспринимает православие скорее как культурное наследие, а не исключительно религиозную основу, что требует более широкого подхода. Пессимизм Кондакова, рассматривающего кризисы как угрозу, а не возможность трансформации, ограничивает анализ. Его модель могла бы быть дополнена рассмотрением того, как глобальные тренды, такие как цифровизация, создают новые формы идентичности, сочетая традиционные и современные элементы. Западная толерантность, например, может усилить традицию межконфессионального согласия, формируя устойчивую идентичность.
Коллективизм и православная этика составляют основу российской идентичности, отличая ее от западного индивидуализма. Социальная солидарность и взаимопомощь, как отмечают В.А. Туев (2014) и О.В. Свиридкина (2018), формируются через духовные ценности, задающие нравственные ориентиры. Их акцент на коллективизме отражает сильные стороны российской культуры, проявляющиеся в традициях семейной поддержки. Однако влияние западного индивидуализма, особенно в городах, где люди стремятся к личному успеху и самовыражению, недооценивается. Современное общество демонстрирует способность сочетать коллективизм с индивидуальными устремлениями, что требует сбалансированного анализа. Модель В.А. Туева и О.В. Свиридкиной могла бы быть дополнена учетом того, как западные ценности, такие как права личности, гармонируют с традицией, усиливая чувство личной ответственности, соответствующее ценностям справедливости и взаимопомощи.
Российская идентичность в условиях постмодерна должна рассматриваться как динамичная мозаика, включающая православие, коллективизм, державность и западные ценности ‒ свободу, плюрализм, прогресс. Эти элементы не конфликтуют, а создают возможность синтеза, позволяющего России оставаться уникальной. Исторически идентичность формировалась как синтез влияний, что делает ее устойчивой к вызовам постмодернизма. Для сохранения идентичности традиционные ценности должны адаптироваться: державность ‒ к инклюзивному управлению, духовность ‒ к светским ценностям, соборность ‒ к интеграции множественных идентичностей.
Духовность, как ядро идентичности, должна включать не только православные, но и светские ценности, такие как толерантность и гуманизм, которые уже укоренились в сознании молодого поколения под влиянием Запада. Соборность должна стать основой для интеграции различных этнических и культурных групп, признавая их уникальность в рамках единого российского пространства. Постмодернизм, с его акцентом на множественность, предоставляет уникальную возможность переосмыслить российскую идентичность как динамичный синтез традиций и современных ценностей. Мы считаем, что Россия может сохранить свою самобытность, интегрируя западные идеи свободы и плюрализма, но адаптируя их к своему культурному коду, что позволит ей оставаться уникальным субъектом в глобальном мире. Этот подход отражает центристскую перспективу, которая признает ценность глобальных влияний, но подчеркивает важность сохранения национальной уникальности как основы устойчивого развития.
Сосредоточимся на соотнесении представлений о российской идентичности с тремя подходами к влиянию постмодерна: негативным, позитивным и взвешенным, а также сформулируем нашу позицию как соавторов, основанную на критическом осмыслении этих концепций. В рамках данного анализа мы учитываем как исторические аспекты формирования территориальной структуры России, так и философские дискуссии о природе идентичности в эпоху постмодерна, чтобы выявить динамику взаимодействия традиционных российских ценностей с западными влияниями.
Российская идентичность опирается на исторически сложившиеся элементы, такие как православие, коллективизм, державность и соборность. Эти черты часто упоминаются в работах, анализирующих социокультурную специфику России. Например, в тексте Н.Ю. Пивоварова акцент делается на «маятниковой модели» принятия решений, где идеология и прагматизм чередуются в зависимости от исторического контекста (Пивоваров, 2022). Это отражает гибкость российской идентичности, способной адаптироваться к внешним вызовам, сохраняя при этом национальное ядро. В то же время статьи А.Ф. Поломошнова (2020) и Р.В. Пеннер (2020) раскрывают, как постмодерн с его деконструкцией и фрагментацией бросает вызов традиционным представлениям о субъекте и идентичности, что неизбежно влияет на российский контекст в условиях глобализации.
Первый подход, акцентирующий негативное влияние постмодерна, находит отражение в концепции Д.А. Давыдова (2024), который видит в постмодерне угрозу духовной основе личности и общества. Д.А. Давыдов критикует западный «гиперлиберализм» и индивидуализм, утверждая, что они разрушают действенную идентичность, лишая индивидов прочной ценностной опоры. Его идея философского персонализма, основанного на диалоге, творчестве и любви, предлагает альтернативу, где личность укрепляется через взаимность, а не автономию. В контексте российской идентичности эта позиция перекликается с традиционным акцентом на коллективизм и духовность, противопоставляемым западному индивидуализму. Мы, как соавторы, признаем силу аргументации Д.А. Давыдова в части критики атомизации общества, вызванной постмодерном, особенно в цифровую эпоху, где социальная солидарность оказывается под угрозой. Однако его подход кажется нам излишне категоричным: отрицание автономии личности игнорирует те позитивные аспекты индивидуальной свободы, которые уже интегрированы в российскую культуру, особенно среди молодежи. Постмодерн, несмотря на свои риски, не только разрушает, но и предоставляет инструменты для переосмысления идентичности, что могло бы обогатить российский цивилизационный опыт, а не исключительно подрывать его.
Второй подход, подчеркивающий позитивные и инновационные аспекты постмодерна, можно соотнести с идеями адаптации российской цивилизации к информационному обществу. Этот взгляд частично отражен в работах А. Инкелеса, который описывает «современную личность» как открытую изменениям, толерантную и ориентированную на прогресс (Inkeles, Smith, 1974). В российском контексте это проявляется в процессах глобализации, таких как цифровизация и доступ к знаниям, которые способствуют модернизации общества. Мы ценим оптимизм этого подхода, особенно в том, что касается возможностей культурного обмена и технологического развития, которые Россия активно использует. Например, урбанизация и демократизация образования, отмеченные А. Инкелесом, находят отклик в российской реальности, где молодежь все больше ориентируется на западные стандарты профессионализма и мобильности. Однако этот подход недооценивает риски утраты традиций и фрагментации идентичности, особенно в многонациональном российском обществе, где соборность и межэтническая гармония остаются ключевыми. Без учета этих факторов позитивное влияние постмодерна может привести к размыванию национального ядра, что делает данный подход недостаточно сбалансированным для анализа российской специфики.
Третий, взвешенный подход, исследующий баланс плюсов и минусов постмодерна, представлен в работах А.Ф. Поломошнова, А.В. Лыковой и Т.В. Лугуценко, которые предлагают модель триады (державность, духовность, соборность) как основу российской идентичности (Поломошнов и др., 2024). Они признают как возможности постмодерна (толерантность, плюрализм), так и его угрозы (секуляризация, индивидуализм), подчеркивая необходимость адаптации традиционных ценностей к современным реалиям. Мы считаем эту позицию наиболее продуктивной, так как она учитывает сложность российской цивилизации, ее евразийскую природу и историческую устойчивость.
Концепция А.Ф. Поломошнова, сосредоточенная на деконструкции идентичности в постмодерне, предлагает такой взгляд, где субъект фрагментируется, а ценности деаксиологизируются (Поломошнов, 2020). Его вывод о дегуманизации общества подчеркивает риски утраты устойчивой идентичности, что особенно актуально для России с ее традиционным акцентом на духовность. Мы разделяем его озабоченность маргинализацией личности в условиях социальных трансформаций, но считаем, что абсолютизация негативных последствий постмодерна может привести к упущению потенциала для конструктивного синтеза. В отличие от этого, Р.В. Пеннер видит в идеях постмодернизма возможность для поиска новых форм идентичности (Пеннер, 2020). Ее анализ предлагает более гибкий подход, который мог бы вдохновить российскую молодежь на творческое переосмысление своего «Я» в глобальном контексте. Мы высоко оцениваем эту перспективу за ее открытость, но отмечаем, что она рискует недооценить значимость национальных корней, которые для России остаются не просто опцией, а необходимостью.
Наша позиция как соавторов заключается в том, что постмодерн - это характеристика западной идентичности, которая не отражает адекватно российскую идентичность и не может быть механически применена к ее анализу. Постмодерн с его плюсами (плюрализм, свобода) и минусами (фрагментация, утрата духовности) выступает чужеродной меркой, попытка замещения которой российской культурой может быть деструктивной для самобытной цивилизации. Мы рассматриваем российскую идентичность как динамичную мозаику, включающую традиционные элементы (православие, коллективизм, державность) и западные ценности (свобода, прогресс), но настаиваем на их адаптации к национальному культурному коду. Это позволяет России сохранять уникальность, оставаясь устойчивой в глобальном мире. В отличие от Д.А. Давыдова, мы не отвергаем полностью индивидуализм, а видим в нем потенциал для обогащения идентичности при условии сохранения соборности. По сравнению с А. Инкелесом, мы акцентируем не только модернизацию, но и необходимость защиты традиций. В сравнении с триадой А.Ф. Поломошнова и др., предлагаем дополнить ее полиэлементным подходом, чтобы учесть многообразие современных влияний.
Влияние западной цивилизации в условиях постмодерна на российскую идентичность проявляется в напряжении между глобальными трендами и национальной самобытностью. Преобладающими остаются вызовы сохранения уникальности, но возможности для интеграции плюрализма и свободы значительны. Исторический опыт России демонстрирует способность к адаптации, что подтверждает нашу позицию о необходимости синтеза. Мы считаем, что Россия должна переосмыслить свои традиционные ценности, интегрируя западные идеи, но сохраняя приоритет национального ядра, чтобы оставаться устойчивой в условиях постмодернистского мира.
Идентичность представляет собой сложный процесс самовосприятия, объединяющий индивидуальное и коллективное, формирующийся через взаимодействие человека с социальными, культурными и историческими контекстами. Это не статичная сущность, а динамическая конструкция, которая постоянно пересматривается под влиянием внешних факторов - от традиций до технологий. Идентичность возникает через восприятие реакций окружающих, становясь продуктом диалога между индивидом и социумом. Она воспринимается как подвижный процесс, формирующийся на стыке личных ценностей, культурных норм и исторических событий. Социокультурная идентичность возникает через усвоение традиций и ролей, которые человек примеряет, адаптируя их к своему «Я». Цивилизационная идентичность связана с принадлежностью к большим сообществам - нациям или религиям - и опирается на общие символы, такие как исторические победы или мечты о будущем. В условиях глобализации и цифровизации идентичность становится гибридной, сочетая локальные и глобальные элементы. Человек может одновременно принадлежать к этнической традиции и глобальному движению, отражая сложность современного мира. Таким образом, идентичность - это история, которую человек рассказывает себе и миру, собирая ее из традиций, медийных образов и личного опыта, не данность, а вопрос, требующий постоянного ответа.
Философия постмодерна радикально переосмысливает идентичность, отвергая идею целостного «Я» и представляя ее как фрагментированную, контекстуальную конструкцию. В отличие от модернистских представлений о стабильной личности, постмодернисты подчеркивают ее зависимость от дискурсов, власти и культуры. Общество постмодерна, характеризующееся плюрализмом, фрагментацией, релятивизмом и гиперреальностью, формирует идентичность как изменчивую и индивидуализированную, что контрастирует с традиционной российской идентичностью, основанной на коллективизме, духовности, державности и соборности. Эти ценности исто- рически обеспечивали устойчивость российского общества, но в условиях глобализации сталкиваются с вызовами. Параметры постмодерна и традиционного российского общества не полностью совместимы, что создает напряжение. Индивидуализм постмодерна подрывает коллективизм, усиливая стремление молодежи к личному успеху и ослабляя социальные связи. Секуляризация и гиперреальность способствуют снижению религиозности, угрожая духовной основе идентичности. Фрагментация множественных нарративов разрушает соборность, усиливая культурные расколы. Однако есть и точки соприкосновения. Плюрализм постмодерна может усилить российскую традицию межконфессионального согласия, способствуя интеграции этнических групп. Глобализация позволяет России адаптировать западные идеи, сохраняя державность, как это было исторически. Гибкость постмодерна созвучна российской способности к адаптации, проявляющейся в «маятниковой модели» принятия решений, где идеология и прагматизм чередуются. Культура постмодерна оказывает двойственное воздействие на российскую идентичность. С одной стороны, она создает риски утраты традиций, заменяя их симулякрами, и усиливает фрагментацию общества. С другой стороны, она открывает возможности для обогащения через диалог: западные ценности свободы и плюрализма могут дополнить традиционные ориентиры, создавая гибридную идентичность. Молодежь в России использует западные технологии, сохраняя семейные традиции, что показывает способность к синтезу. Исторический опыт России демонстрирует ее умение интегрировать внешние влияния, сохраняя национальное ядро. Для устойчивости в постмодернистском мире Россия должна адаптировать традиционные ценности, интегрируя глобальные тренды, но сохраняя приоритет уникальности. Это требует переосмысления державности в сторону инклюзивного управления, духовности ‒ с включением светских ценностей, и соборности ‒ как основы для интеграции множественных идентичностей. Постмодерн предоставляет инструменты для творческого переосмысления идентичности, но успех зависит от осознанного баланса между традициями и современностью.
Идентичность ‒ это динамичный процесс, формирующийся в диалоге с окружающим миром. В постмодерне она становится фрагментированной, лишенной устойчивого ядра, что контрастирует с российской идентичностью, основанной на коллективизме и духовности. Постмодерн усложняет сохранение самобытности, но историческая гибкость России позволяет синтезировать традиции и современные ценности. Влияние постмодерна двойственное: оно создает вызовы, но открывает возможности для устойчивого развития через адаптацию.