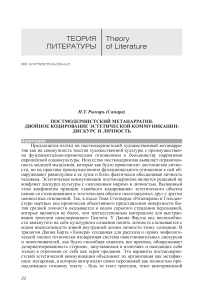Постмодернистский метанарратив. Двойное кодирование эстетической коммуникации: дискурс и личность
Автор: Рымарь Н.Т.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Предлагается взгляд на постмодернистский художественный метанарратив как на совокупность текстов художественной культуры с преимущественно фундаментально-ироническим отношением к большинству нарративов европейской социокультуры. Искусство постмодернизма выявляет ограниченность моделей мышления, которые как будто превозносят достоинство личности, но на практике преимущественно функционального отношения к ней обнаруживают равнодушие к ее душе и боли, фактически обесценивая личность человека. Эстетическая коммуникации постмодернизма является реакцией на конфликт дискурса культуры с «жизненным миром» и личностью. Вызванный этим конфликтом принцип «двойного кодирования» эстетического объекта связан со столкновением в эстетическом объекте несогласуемых друг с другом ценностных отношений. Так, в пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» код иронически объективного представления поверхности бытия средней личности оказывается и кодом скрытого страдания персонажей, которые являются не более, чем третьестепенным материалом для выстраивания трагедии шекспировского Гамлета. У Джона Фаулза код неспособности замкнутого на себе культурного сознания понять личность сталкивается с кодом внеположности живой внутренней жизни личности этому сознанию. В трилогии Джона Барта «Химера» созданная для рассказа о героях мифологической эпопеи технически изощренная система повествовательных дискурсов и повествователей, как будто способная охватить все времена, обнаруживает дезориентированность «героев», запутавшихся в иллюзиях и находящих себя только в отречении от себя как героя предания. Эти варианты постмодернистской эстетической коммуникации объединяет их организация как метафикшин: метароман, в котором автор видит своих персонажей как полностью принадлежащих готовому тексту - будь то текст трагедии, текст викторианской культуры или тексты мифа; его задача - нащупать возможности несовпадения личности с дискурсом.
Ирония, граница, дискурс, метанарратив, двойное кодирование, постмодернизм, джон фаулз, том стоппард, джон барт
Короткий адрес: https://sciup.org/149147189
IDR: 149147189 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-22
Текст научной статьи Постмодернистский метанарратив. Двойное кодирование эстетической коммуникации: дискурс и личность
Irony; boundary; discourse; metanarrative; double coding; postmodernism; John Fowles; Tom Stoppard; John Barth.
Глубокие изменения в искусстве последней трети ХХ в. связаны с изменениями в понимании эстетической природы литературы и искусства. Эпоха постмодерна отличается, с одной стороны, хорошо известным размыванием границ между «высоким» искусством и «жизненным миром», что ведет к ослаблению автономии собственно эстетического начала в искусстве и в жизни [Riese, Magister 2003, 23–39]. Это как будто лишает искусства той дистанции к реальности, которая делала его отношение к жизни творчески продуктивным;
с другой стороны, прежний конфликт между «глубиной искусства» и «поверхностью» жизни перемещается во внутрь образного мира – в структуру произведения, которая сразу становится более сложной и провокативной для восприятия как читателя, так и литературоведа. На наш взгляд, в эпоху постмодернизма в искусстве в целом нужно ставить вопрос о новых формах эстетической коммуникации в жизни и в искусстве, которая, войдя в ядро произведения, в эстетический объект, стала определенным вызовом – в том числе вызовом для самопонимания современной личности.
Необходимо осознать: в искусстве постмодернизма произошла радикальная актуализация собственно коммуникативной природы эстетической деятельности, выход на поверхность эстетического события коммуникативных его аспектов как процессуально и особым образом драматизированного творческого акта, осуществляющегося в «трехстороннем эстетическом событии» [Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004, 102] в глубине эстетического объекта между субъектом и объектом, и в остро ощутимом диалоге между художником и миром, автором и героем, автором и читателем-реципиентом, что, в частности, проявляется и в широком распространении форм metafiction (см. [Зусе-ва-Озкан 2014; Абрамовских, Пасашкова, Смоленская 2022] и мн. другие). В эпоху модерна и постмодерна в этих отношениях накапливается определенная напряженность, связанная с множеством конкурирующих ментальных, идеологических, социальных позиций в культуре, отсутствием общезначимых и авторитетных для всех ее частей истин – неоднородностью ее сознания и трудностями в коммуникации между ее областями. В частности, в культуре постмодерна это во многом скрывающаяся под маской игровой необязательности жесткая отчужденность критического мышления, как будто теряющего связь с простой человечностью «жизненного мира» или «слишком человеческим». То, что в культуре ХХ в. конфликтовало – модернизм, реализм и авангард, в конце века сталкивается в границах одного эстетического объекта. Речь в данном случае идет не о размывании границ и не о «засыпании рвов» [Fiedler 1969], а о переживании читателем соединения несоединимого – неслиянности и автономности дискурсов разного типа в одном целом – определенного рода гротескной коммуникации параллельных рядов, не предполагающих «диалог согласия» [Маньковская 2000, 165].
Поэтому важнейшей особенностью постмодернистского сознания является ирония как дистанция к социокультурным стереотипам, – рефлексия, зиждущаяся на опыте понимания ограниченности и проблематичности общекультурных и эстетических, идеологических, бытовых и нравственных ориентиров личности. Серьезность творческих задач постмодернистской иронии до сих пор недооценивается. Для У. Эко это в целом признак «истощения» и риторический прием, для Ибн Хасана это игра, иронический, фрагментарный, антиметафизический дискурс, идеология «отсутствия» и разрывов, преломление слов «выговоренного молчания» и «поиск истины, всегда ускользающей» [Hassan 1988, 52]. В.О. Пигулевский, автор труда о постмодернистской иронии, рассматривает ее как «радикальную» и – «добавочный смысл в структуре текста и письма», «она существует не ради серьезного, но ради игры», контексту-альности и карнавальности, но вместе с тем ученый указывает на ее «расчленяющий и нигилирующий механизм»: она «дробит символы и стереотипы…, порождает фрагментарность и является деканонизацией, т.е. критицизмом к любым табу, принятым условностям, стандартам знания, всякой легитимности» [Пигулевский 2002, 206]. На наш взгляд, ирония в постмодернизме – это очень серьезно, это тип мышления, лежащего в основе постмодернистских техник: ирония есть реакция на границы современного сознания и его подчас трудные, хоть часто и легкомысленные, но продуктивные формы переосмысления «готовых», привычных представлений – «мифов», на самом деле скрывающих в себе противоречия и серьезнейшие вопросы европейской культуры. Опыт осознания границ культуры разбивает оковы сознания и создает перспективы «демифологизации» как возможности возвращения личности к реальности ее бытия. Джон Фаулз, например, делает эпиграфом к своему роману «Любовница французского лейтенанта» слова Маркса: «Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку» [Фаулз 2002, 5].
Кризис культуры эпохи модерна в начале ХХ в. вызвал «кризис языка», но его обострение в последней трети ХХ в. повлекло за собой новый «кризис языка», что означало существенно более радикальную перестройку основных форм гуманитарного сознания и художественных языков. Эпоха постмодерна породила постмодернизм как направление в искусстве, которое часто толкуют как результат кризиса языков модернизма. Увязывание постмодернизма с искусством модернизма первой половины века дискуссионно, но может быть оправдано тем, что проблема личности, которая в художественной культуре модернизма приобретала исключительную остроту, к концу ХХ в. стала как в жизни, так и в искусстве уходить в тень более обобщенно-аналитического и функционально-безличного отношения к ней, так что говорить нужно не о кризисе искусства модернизма, исчерпавшего себя в середине века, а о реакции гуманитарного сознания на новое состояние культуры, на практике исподволь расстававшейся с ценностями модерна.
Описанное Франсуа Лиотаром «состояние постмодерна» [Лиотар 1998] – это состояние разрыва между постулатами идеологии, которая и сегодня базируется на ценностях исторического модерна, принципиально отстаивавшего ценности индивидуальности, самостоятельности и прав личности, и не со- впадающей с этой идеологией практикой отношения к личности, фактически ее обесценивающей. В реальности современной, а в начале ХХI в. уже «цифровизированной» культуры отдельная личность, которая субъективно должна соответствовать нормативным для нее ценностям идеологии модерна, воспринимается с точки зрения типовых функций определенных ментальных, психических, физиологических и общественных процессов, которыми владеет «инструментальный разум». Этот разум прекрасно умеет ценить индивидуальные способности отдельной личности, но встраивает индивида в функциональную систему общества, требующего от каждого умений, полезных для определенных форм деятельности и «эффективного» развития, как бы отвечающих интересам культуры, в которой разные формы жизни и сознания оказываются ее функциональными механизмами. Когда в начале ХХ в. под впечатлением идей Э. Маха и психоанализа с тревогой и всерьез заговорили, что «наше ‘я’ не спасти» [Bahr 2011, 36], масштабы проблемы еще не осознавались – проблему видели, подобно Чендосу, герою «Письма» Гуго фон Гофмансталя [Hoffmanst-hal 1979, 461–472], в конфликте языка культуры и индивидуального сознания, индивидуального опыта.
В отличие от духовной ситуации начала ХХ в. социокультура постмодерна теряет интерес к индивидуальному сознанию личности, ее неповторимости как ценности высшего порядка: так, сознание человека показательно интересует гуманитарные науки последней трети ХХ в. и в начале ХХI в. больше как пространство определенных дискурсов, типологически определенных форм восприятия и реакций – аналогично тому, как еще Б. Брехт в 20-е гг., обращаясь к коллективной психологии «маленького человека», применял свое понятие Gestus [Brecht 1993, 689] как типовую реакцию на ситуацию его жизни – аналогично тому, как в середине века И. Гофман анализировал фреймовые формы поведения человека [Гофман 2004]. В культуре и в социологических исследованиях эпохи постмодерна эти подходы уже нормальное явление, как это видно в интересе к «готовым», типологически определенным моделям мышления и поведения личности.
Однако искусство постмодернизма на самом деле оказалось серьезной реакцией на это состояние культуры постмодерна. С конца 50-х и в последующие десятилетия это очевидно в архитектуре как одном из ранних проявлений постмодернизма. Раньше история архитектуры в целом оставалась историей искусства «без имен» – историей стилей, в которых манифестируются векторы ценностных ориентаций общества в целом. Архитекторы середины ХХ в. вырывались из-под власти стиля, обратившись к конструктивизму и принципам функционалистского пуризма, однако эти революционные начинания модерна в определенный момент стали фактором обезличивания городской среды, чисто функциональной организации городского пространства.
После Второй мировой войны ценностные векторы эстетической коммуникации стали меняться: началась реакция против технического пуризма: постмодернизм стал противопоставлять технической рациональности модерна принципы парадоксальной противоречивости и многозначности, своего рода «произвольности» архитектурных решений, формируются новые представления о структуре эстетического объекта: Роберт Вентури писал о тяге к парадоксальному и утверждал эстетическую ценность «слагаемости различного», позволяющую соединять резко отличающиеся друг от друга вещи, полагая, что «как раз их несогласуемость позволяет прийти к особой правде» [Venturi 1988, 81–84]. Несогласуемость и иллюзорность становятся важной чертой в практике эстетического сознания второй половины ХХ в. В современной архитектуре, писал Г. Клотц, имеет место нарративно-фикциональное использование разнообразных «стилевых вокабул» и рассматривал это явление как «претензию архитектуры» на создание самостоятельных фикциональных миров: множество значений, представленных краткими знаками, пробиваются к повествовательному изображению [Klotz 1988, 106–108].
Чарльз Дженкс – один из тех, кто категорически отрицал «простые модели» и технические схемы, подвергая острейшей критике модернизм в архитектуре, характеризуя его посредством понятия «одномерной формы» [Дженкс 1985, 14–41], восходящего к концепции «одномерного человека» Г. Маркузе [Дженкс 1985, 20]. Постмодернизм рассматривается Дженксом как реакция на эту «монологичную» одномерность и замкнутость на своих технических задачах, он указывает на поэтику «двойного кодирования» как структурную особенность архитектурного образа [Дженкс 1985, 106], но играющую в постмодернизме особую роль: это обращенность архитектурного образа как к элитарному сознанию, так и к обыкновенному человеку с улицы [Дженкс 1985, 132], для которого важна не конструкция, а привычная жизненная среда. Существуют, пишет он, «два кода: во-первых, популярный, традиционный, медленно меняющийся, подобно разговорному языку, изобилующий клише и имеющий корни в обыденной жизни, и, во-вторых, современный, полный неологизмов и откликающийся на быстрые изменения в технологии, искусстве и моде так же, как и авангард в архитектуре» [Дженкс 1985, 132].
Здесь нам важна не только перекличка с известным положением о пересечении границ и засыпании рвов [Fiedler 1969], на наш взгляд, важнее мысль о дуализме постмодернистского мышления, – о соединении ходовых практик «слишком человеческого» с противостоящими им дискурсами независимой творческой или технически ориентированной мысли. В данном случае речь у Дженкса идет о расширении ассоциативного потенциала архитектурных метафор, соответствующее «двойственному восприятию пространства» [Дженкс 1985, 86].
Очевидна способность архитектуры постмодерна по-новому строить эстетическую коммуникацию, в частности, заметно возрастание роли реципиента в творческом процессе, стремление художника сделать его активным участником формирования риторического задания архитектурного проекта, как например, центр Жоржа Помпиду, что проявляется в обращении к ценностно разнообразным формам художественного опыта современного человека. Это становится одним из важнейших средств выразительности не только в архитектуре, но и в литературе и искусстве в целом. В развитии художественной культуры видна тенденция к формированию языка различных видов искусства, включающего в себя стилевые вокабулы, отсылающие к очень разным историческим и современным жизненным и художественным мирам.
Но дуализм противоречивой современной многоголосности и традиционности в искусстве постмодернизма есть, по нашему мнению, реакция искусства на положение личности в эпоху постмодерна. Реакция эта действительно серьезна, так как постмодернистское искусство, с одной стороны, вполне очевидно отражая «растворение Я в поверхности стилизованных жестов» [Hassan 1988, 50], тем не менее выполняет задачи, свойственные искусству: проникая в сознание человека, оно в инверсиях привычных смыслов находит собственные способы понимания и оценки состояния человека.
Художественная культура постмодерна порождена этой двойственной ситуацией и воспроизводит ее в своей иронической рефлексии над существующими формами сознания, с одной стороны, все глубже постигая их границы, с другой стороны, однако, сосредоточиваясь на проблематике индивидуального бытия и сознания индивида, обнаруживая внутренний драматизм положения личности, функционирующей в соответствии со своим функциональным «назначением» в обществе. Эта личность вписывается в мир, примеряясь к нему, принимает его, тем не менее зная свою неспособность ни реально соответствовать виртуальным стандартам культуры, ни понимать их суть, ни свободно действовать в мире, в котором все ценности и связанные с ними смыслы стали непрозрачными.
Двойное кодирование заключается в том, что художник работает с этой реальностью, это его проблема, но он, как правило, знает, что этот мир для героя реален, герой живет в этом мире и именно это составляет его человеческую жизнь – драму современного человека, смутно догадывающегося, что он живет в чужом мире, в конечном счете недоступным его пониманию. В труде Н.В. Маньковской говорится, что человек занимает «периферийное положение в современной культуре, о чем свидетельствуют хрупкость, ущербность, парадоксальность персонажей», но в ее работе проводится мысль о том, что «человек вернулся в искусство постмодернизма» [Маньковская 2000, 160]. Проблема положения человека в современной культуре составляет центральный момент парадоксального, двойственного строения эстетического объекта в литературе постмодернизма.
Яркую модель новой структуры эстетического объекта, в строении которого обнаруживается практически новая по своей жесткости постановка проблемы личности и специфические для постмодернистского сознания гротескные формы эстетической коммуникации, представляет собой пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Абсурдная ситуация первой сцены пьесы – подброшенная монета падает всегда только одной стороной указывает: у героев пьесы Шекспира выбора нет и не может быть, так как они лишь персонажи пьесы. Розенкранц и Гильденстерн – комическая пара (Роз и Гилд!), они никогда не узнают, кто они такие на самом деле, но для них это не игра, здесь другой код: они ищут смысл, не зная, что им он принципиально не доступен, так как они лишь означающие – для зрителей, а то, что они воспринимают как реальность, на самом деле театр. Образованного и мыслящего Гильденстерна это заставляет делать различные умозаключения, задача которых – объяснить суть явления. Он перебирает и комбинирует формулы из дискурсивных практик разных эпох культуры, но в итоге может прийти лишь к фактически ничего не объясняющему, зато глубоко двусмысленному «За нами послали» [Стоппард 2006, 15], которое для читателя – лишь знак сюжета, а для героев пьесы это потеря почвы под ногами.
Автор создает особую коммуникативную ситуацию: нарратив философской трагедии разрывается посторонним для него сюжетом трагедии человеческой беспомощности, бросающим глубокую тень на сюжет нерешительности Гамлета: два кода организуются по принципу постмодернистской иронической инверсии и неожиданно отзеркаливаются. Розенкранц и Гильденстерн выступают в роли дважды марионетки: и как придворные в сюжете трагедии Шекспира, и как объект зрителей, обсуждающих замысел Стоппарда. С одной стороны – это предельное и выполняемое на всех уровнях превращение заглавных персонажей пьесы в безвольный объект, их овеществление, но одновременно в пьесе Стоппарда активен и противоположный код: Розенкранц и Гильденстерн теперь центральные фигуры – обреченные на смерть марионетки трагедии принца Гамлета, но при этом живые люди, знающие свою несвободу, беспомощность, и отчаянно пытающиеся, то ли сопротивляясь, то ли приспосабливаясь, понять свою судьбу и самих себя, – в надежде таким образом спастись. Коду шекспировского сюжета в пьесе Стоппарда отвечает изображение того иного, что этот код не предусматривает. Два кода, два отрицающих друг друга нарратива накрепко связаны.
Другая модель постмодернистской разработки проблематики личностного начала: роман, названный Дж. Фаулзом «Любовница французского лейтенанта», герой которого Чарльз, в отличие от персонажей Стоппарда может полагать, что понимает мир. Но мир викторианского сознания неожиданно оказывается для него границей понимания другого человека, да и самого себя. Сознание Чарльза строится как постоянная рефлексия над реальностью, которой принадлежит его сознание: он собирает окаменелости, – знаки прошлого. Это ироническая отсылка к «Археологии вещей» Фуко, но и к викторианским дискурсам, включая дарвинскую концепцию происхождения видов. Встреча с загадочной Сарой, якобы «падшей женщиной», – тоже викторианский дискурс, но и нечто иное: выбранный Сарой дискурс есть маска художника, строящего свою собственную личную жизнь, – это знак, указывающий на отсутствующее как другую возможность бытия, которая впоследствии была найдена ею в среде прерафаэлитов. Чарльз постоянно наталкивается на невозможность ее понять – проблема понимания реальности оказывается главной мукой героя, делает его жизнь настоящей драмой, и чтобы справиться с ней, нужно сделать тяжелый выбор, это что-то лежащее «по ту сторону» его сознания. Все герои романа – марионетки культуры, но осознание этого – вызов стать самим собой.
В творчестве Дж. Барта проблема сознания героя трактуется как попытки осознания, формирования или переосмысления своей идентичности, не совпадающей с тем, как он функционирует или должен функционировать в нарративах культуры. Но мифу героического свершения противостоит немыслимое – «кризис среднего возраста»; это значит, что Персей буквально выпадает из мифа, проваливается в иную жизнь: у него появляется мучительная боль сомнений и потребность вернуться к прошлому, чтобы понять, где он «что-то потерял», когда «не туда свернул» [Барт 2000, 85]. Другой герой мифа – Беллерофон, подражавший Персею – тексту «Персеады» – приходит к необходимости уже «полностью перетряхнуть свое прошлое» [Барт 2000, 259] – это рефлексия над «Схемой» как «текстом мифа», преданием. Личное перестало согласовываться с дискурсом. Может быть, это текст своего рода «великих рассказов» Лиотара, текст культуры, в системе которого функционируют герои романа, жаждущие героического бессмертия. Автор этого текста культуры представлен длинным списком, начиная от Гесиода и кончая Дж. Кембеллом, перу которого приписывается и «Персеада». Проблема героя культуры постмодерна – проблема выхода из наивно-непосредственного, но овеществленного единства индивида с миром, возникновения сомнения и наконец, постепенного осознания им иллюзорности универсальной схемы. Герой то освобождается от иллюзий, то создает новые иллюзии: так Беллерофон ищет у Болотного старца совета, как «разомкнуть замкнутый контур своей жизни в восходящую спираль» [Барт, 292], но так или иначе он обречен существовать в рамках текста культуры как гетерогенного целого – неоднородного, в течение веков лишившегося центра, но довлеющего над человеком в разнообразных формах повторений, аналогий того, что казалось единственным. В этом варианте построения эстетической коммуникации мифологическое сознание и сознание личности культуры модерна соединяются по типу гротескного единства разноприродных начал. В романе Барта с, казалось бы, иронически-игровой, технической, «дегуманизирующей» интеллектуальной работой повествовательных форм с мифом соединяется несоизмеримая, иноприродная для нее проблема интимно-человеческого, личностного плана - это мучающий их, Персея и Беллерофона, или автора, или читателя вопрос: кто же он есть, герой как Никто, Сверхчеловек, Всечеловек, ранимый смертный индивид? Героизм мифа отменяет мучительные проблемы личного достоинства, любви, тоски, предательства, страха, победы или поражения, унижения, смирения, надежды и так далее: эти коды гротескно соединяются в эстетическом объекте.
Характерно, что «завершающие» бытие героя способы толкования его подлинной сути реализуются в рассказах и размышлениях как нескольких повествователей, так и его самого, пытающегося познать себя, в том числе при помощи изысканий по мифологии и лекциях в университете; автор постоянно создает метароманные и «псевдодиегетические» повествовательные формы [Арабина 2018]. Сутью этих форм завершения оказывается демонтаж границ героя, который теряет свою якобы героическую единственность и неповторимость, что означает, с одной стороны, миф, понятый по-джойсовски – как «все во всем», с другой – как отчаяние личности, неправильно себя истолковавшей: «ибо я ценил не свою жизнь, но свое героическое предание» [Барт 2000, 310]. Беллерофон вынужден признать унизительное поражение – невозможность осуществления «схемы» или мифов «великих рассказов». Запутавшиеся в иллюзиях «мифологического текста» персонажи романа находят себя только в отречении от Схемы и конкретно от своей роли по мерке героического предания.
С наибольшей остротой и глубиной проблематика личности в постмодернистском сознании получает свою реализацию все-таки в пьесе Тома Стоппарда «Розенкрац и Гильденстерн мертвы». Здесь коммуникативная специфика постмодернистской эстетики не только внутри эстетического объекта, но и на самой его поверхности – в прямой направленности на сознание читателя: ведь инверсия устойчивых литературных или социальных моделей восприятия – это прорыв сознания за границы автоматически срабатывающих реакций на действительность, обусловленных крепкой властью над ним существующих дискурсивных практик – привычных заданностей восприятия, не позволяющих человеку видеть мир «как он есть» и свое реальное положение в нем.
Пьеса строится на инверсии традиционного сюжетного мотива – выводя как героев, так и читателя за пределы действительности пьесы Шекспира в мета-мир творчески активной эстетической рефлексии над шекспировским текстом, создающей свою ценностную перспективу на в целом комическую пару персонажей-двойников: и герои, и зрители получают шанс осознать то, что было за пределами эстетического опыта читателя классической литературы. По своему происхождению Розенкранц и Гильденстерн – персонажи, включенные в порядок традиционного художественного дискурса, который для них есть естественный и вполне благополучный порядок их существования, у них не было вопросов к этому миру. «Вся наша жизнь», – говорит Гильденстерн, – «так правдоподобна, что вроде какая-то пленка на глазах, – но случайный толчок, и перед тобой черт знает что… Ничего, кроме плаща и шляпы, воспаряющих над землей в морозном облаке пара – из его же собственного рта, – но когда он позвал – мы пошли» [Стоппард 2006, 39–40]. В шекспировском тексте за ними послал король Клавдий, а на самом деле Шекспир; в тексте Стоппарда это сделал автор ХХ в., но в том и в другом случае это сделала классическая культура, для которой, в целом говоря, люди, взятые сами по себе, не ценность, так как значимы и интересны лишь «лучшие», благородные и умные – святые или герои. Автор пьесы – ироник, изображает не события объективной реальности, в которой живет герой, а жизнь сознания, которая осталась в тени культуры, в ее катакомбах: настоящее место для таких персонажей культура видела в низких жанрах – для утверждения идеала человека посредством отрицательного примера, предполагающего осмеяние дурака.
В пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» герои знают, что порядок культуры, для них естественный, мыслит их как ничтожества и обрекает на казнь, а читателю, знакомому с трагедией Шекспира, автор ХХ в. показывает, что в традиции европейской культуры человек в ранге второстепенного персонажа есть ничто. Привычная для персонажей пьесы реальность, то есть привычные формы восприятия и оценки прямо представлены слепой, «полуреальной», иллюзорной жизнью, из которой их «разбудил» «посланец», вернувший их из снов культуры, какова она в трагедии «Гамлет», в текст пьесы Стоппарда, в которой они должны еще раз осознать свое место в существующей иерархии ценностей. Одновременно художник демонстрирует читателю-зрителю: конечно, это лишь персонажи всем известной трагедии Шекспира, но их проблематика – проблематика обычного бытия среднего человека, которого внезапно «послали» осознать, что на самом деле он никто. Читателю шекспировской трагедии автор таким образом показывает, насколько глубока дистанция между бытием и заданностями сознания, между искусством и реальностью, искусством и социально-бытовыми стереотипами культуры. То и другое – существуют отдельно, рядом, как параллельные миры.
В пьесе Стоппарда автор представлен фигурой Актера как художника, который в полной мере осознает проблему, оказавшуюся ключевой для культуры постмодерна и экзистенциально острой для постмодернистского художника: это проблема невозможности тождества жизни и слова, в свете которой и жизнь, и искусство теряют свое оправдание. Актер говорит о ней с точки зрения актера как человека «обратного людям», в силу профессии «отказавшегося от себя», живущего только в реальности театрального дискурса. Если игру актера никто не видит, каждый его жест и каждая поза «растворяются в прозрачном, необитаемом воздухе»: «мы… распинались под пустым небом»: актеры ходят в одежде, «которую никто не носит, твердя слова, которых никто не говорит, в дурацких париках, клянясь в любви, распевая куплеты, убивая друг друга деревянными мечами, впустую вопя о потерянной вере после пустых клятв отмщенья» [Стоппард 2006, 65]. Он перечисляет традиционные мотивы и реквизит сцены, сюжеты, ситуации, темы, слова – элементы театральной культуры, которые, если их не видит и не слышит зритель, беспредметны, лишаются смысла, существуя лишь как набор фигур речи. Но таким образом актер как бы и не существует; он только социальная функция, не личность. Тем самым речь идет и о бессмысленности существования главных героев, их не-существовании по ту сторону их функций в сюжете шекспировской пьесы. Актер-художник говорит об этом, обращаясь к Розенкранцу и Гильденстерну: «Вспомните сейчас о спрятанной в самой глубине души, о самой... тайной, самой интимной вещи... или мысли... которая у вас есть... или была...» [Стоппард 2006, 60]. С неожиданной эмоциональной остротой эта сцена выводит в самый центр пьесы то, что является главным в проблематике реакции постмодернизма на ситуацию личности в эпоху постмодерна: «тайная, самая интимная мысль» актера – автора пьесы – это мысль о потери личности.
Это мысль, в общем остающаяся на периферии внимания литературной и театральной критики. Аналогична и реакция героев пьесы на слова Актера. Они сознательно уходят от мысли о пустоте и смерти: Гильденстерн спасается иронией, сводя речь Актера к ее риторическим достоинствам; прямой по натуре Розенкранц услышал Актера, но не желая с ним согласиться, тем не менее говорит о смерти, но как о чем-то таком, что для человека лишено настоящей реальности. Слова и жизнь отрицают друг друга. Действительно, «остальное – молчание».
Список литературы Постмодернистский метанарратив. Двойное кодирование эстетической коммуникации: дискурс и личность
- Абрамовских Е.В., Пасашкова С.М., Смоленская М.А. Проблемы метаповество-вания в пьесе и кинофильме Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» // Сфера культуры. 2022. № 2(8). С. 25-37.
- Арабина А.В. «Химера» Джона Барта как метароман // Уральский филологический вестник. 2018. № 5. Серия «Драфт: Молодая наука». Вып. 7. С. 31-39.
- Барт Д. Химера. Санкт-Петербург: Симпозиум, 2000. 384 с.
- Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН; ФОМ, 2004. 750 с.
- Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. 136 с.
- Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика метаромана. М.: Intrada, 2014. 488 c.
- Лиотар Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 159 с.
- Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
- Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму. Ростов н/Д: Фолиант, 2002. 418 с.
- Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы // Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы: Пьесы; пер. с англ. М.: Иностранка, 2006. 703 с.
- Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: в 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика / под. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Академия, 2004. 512 с.
- Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. 511 с.
- Bahr H. Das unrettbare Ich // Bahr H. Inventur. Weimar: VDG, 2011. S. 36-50.
- Brecht B. Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen // Brecht B. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe / Hg. von W. Hecht; J. Knopf, W. Mittenzwei, K.-D. Müller. Bd. 22. Teil 1. Berlin; Weimar; Aufbau-Verlag; Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 357-365.
- Hassan I. Postmoderne heute // Wege aus der Moderne - Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion / Hrsg. von W. Welsch. Weinheim: VCH Verlag, 1988. S. 47-56.
- Hoffmansthal H. Ein Brief // Hoffmansthal H. Erzählungen. Erfundene Gespräche und Briefe. Reisen. Gesammelte Werke: in 10 Bd. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1979. S. 461-472.
- Fiedler L. Cross the Border - Close the Gap // Playboy. 1969. Dez.
- Klotz H. Moderne und Postmoderne // Wege aus der Moderne - Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion / Hrsg. von W. Welsch. Weinheim: VCH Verlag, 1988. S. 99-109.
- Riese U., Magister K.H. Die Transdifferenz der postmodernen «Prolematik» // Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch: in 7 Bd. B. 5. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2003. S. 21-39.
- Venturi R. Komplexität und Widerspruch in der Architektur // Wege aus der Moderne - Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion / Hrsg. von W. Welsch. Weinheim: VCH Verlag, 1988. S. 79-84.