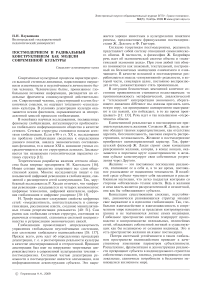Постмодернизм и радикальный конструктивизм как модели современной культуры
Автор: Плужникова Наталья Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Социально-гуманитарные науки
Статья в выпуске: 4 (5), 2009 года.
Бесплатный доступ
Анализируется возможность применения понятия сети к процессам глобализации культуры. В связи с этим автор обращается к постмодернизму и малоисследованной в современной культурологии концепции радикального конструктивизма.
Культура, постмодернизм, сеть, информация, целостность, конструирование реальности, современный человек
Короткий адрес: https://sciup.org/14821497
IDR: 14821497
Текст научной статьи Постмодернизм и радикальный конструктивизм как модели современной культуры
Современные культурные процессы характеризуются высокой степенью динамики, нарастающим ощущением изменчивости и неустойчивости личностного бытия человека. Человеческое бытие, пронизанное глобальными потоками информации, распадается на отдельные фрагменты социокультурной действительности. Современный человек, существующий в сетях бесконечных смыслов, не ощущает тотального «ускользания» культуры. В условиях децентрации культура оказывается неким фантомом, скрывающимся за неопределенной завесой процессов глобализации.
В новейших научных исследованиях, посвященных феномену глобализации, актуализируется проблематика глобального информационного общества в качестве сетевого. Сетевые структуры становятся новыми агентами глобализации. Если в 90-х гг. ХХ в. исследования по проблеме глобализации сводились к определению данного понятия, анализу экономических составляющих феномена, то в начале XXI в. внимание ученых сосредоточивается на его структурных аспектах. Закладывается так называемая геополитическая парадигма сетевых структур [13].
Теоретическая разработка явления сетевого общества была впервые предпринята М. Кастельсом [16]. Новая сетевая парадигма затрагивает все слои общественной жизни. Многие исследователи пишут о так называемой цифровой революции в глобализации, связанной с расширением сетей коммуникации. Так, зарубежный исследователь Р. Хассан отмечает, что «цифровая революция» складывается из четырех компонентов: цифровые технологии, цифровой капитализм, цифровая глобализация и цифровое ускорение [30: 15].
-
Н. Трифт выделяет следующие свойства цифровых сетей: «эмерджентность, контекстуальность и самоорганизация, рассеивание власти, создание манипулятивных техник репрезентации реальности» [40: 51]. Сам рынок как глобальная сетевая структура, состоящая из рыночных отношений, становится системой воспроизводства и ретрансляции экономических связей.
Глобализация провозглашает непредсказуемость управления глобальными неустойчивыми системами, или системами глобального взаимодействия [38: 137]. Прежде всего, речь идет об определенных процедурах децентрации, т. е. о рассмотрении реальности культуры в качестве децентрированной и гетерогенной. Принцип децентрации был взят на вооружение теоретиками широкоизвестного в современной культурологии течения – постмодернизма. Составной частью децентрации реальности в постмодернизме является элиминация, или информационная деконструкция субъекта. Это выра- жается хорошо известным в культурологии понятием ризомы, предложенным французскими постмодернистами Ж. Делезом и Ф. Гваттари.
Согласно теоретикам постмодернизма, реальность представляет собой систему отношений символического обмена. В частности, в философии Ж. Бодрийяра речь идет об экономической системе обмена и «политической экономии знака». При этом любой тип обмена понимается как знаковый, текстуальный, построенный на бесконечных замещениях означаемого и означающего. В качестве исходной в постмодернизме разрабатывается модель «симулятивной» реальности, в которой части, симулируя целое, постоянно воспроизводят нечто, долженствующее стать проявленным.
В ситуации бесконечных замещений конечное состояние проявленности становится недостижимым: «в противоположность метафизической, диалектической и ‘’гегелевской’’ интерпретации экономного, сберегающего движения differance мы должны признать здесь некую игру, где проигравшие одновременно выигрывают и где всякий, кто побеждает, в то же время проигрывает» [11: 133]. Речь идет о так называемом «отсроченном» обмене.
Единственной реальностью в постмодернизме признается реальность желания. Согласно Ж. Делезу, желание обладает такими характеристиками, как отсутствие адресата, бессознательность, высокая скорость распространения, нелокальность. Желание в постмодернизме приобретает однонаправленный характер. Так, французский философ Ж. Лакан строит свою концепцию реверсивного желания, которая, в конце концов, оказывается в порочном круге односторонности: в желании субъект конституирует свои собственные устремления через Другого.
Желание — это постоянное поглощение реальности, втягивание ее в себя и, в то же время, постоянное ускользание от подавления тотальности. В подобной среде субъект чувствует себя пассивным и расслабленным настолько, что легко поддается контролю со стороны «обтекаемых» техник власти. Ведь в желании и сама власть является рассредоточенной и незаметной, она как бы «обволакивает» субъекта.
Концепция существования сложных, неустойчивых, динамически развивающихся структур находит свое выражение и в идеологии глобализации. Так, глобальное взаимодействие и взаимозависимость в современном мире находятся за пределами контролируемых границ и не подчиняются логике самих индивидов. Глобальное пространство капитала генерирует производство и воспроизводство нелокальных, нелинейных сетей, обладающих собственной логикой и существующих как бы независимо от сознания индивида. Это и есть пространство желания на языке постмодерна.
Потеря системной устойчивости в таком глобальном пространстве взаимодействия приводит к качественному изменению параметров субъективности. Расщепление, фрагментация и деконструкция реальности превращают субъекта в индивидуального строителя собственных смыслов, тактика, удовлетворяющего свои локальные, единичные потребности в бесконечно меняющемся жизненном мире.
В подобной среде могут присутствовать невыяв-ленные структуры, которые имеют возможность воздействия на объект. Все пространство взаимодействия становится бесструктурным информационным полем, в котором существует множество пересекающихся, накладывающихся друг на. друга, внешних управлений, исходящих от анонимных субъектов. В этом случае система является нестабильной, а взаимодействия внутри системы носят непредсказуемый характер.
Глобальная социальная среда, начинает представлять собой открытую нелинейную систему, в которой из хаоса возникают отдельные хорошо организованные локальные очаги в виде этнических, политических и социально-экономических структур. Благодаря наличию особых самоорганизующихся свойств последних они могут безболезненно самоорганизовываться в более широкие системные образования. Ключевыми характеристиками такой открытой нелинейной системы являются неравновесность, разнородность, неустойчивость и непредсказуемость. Считается, что среда практически не поддается управлению. В подобной среде структуры образуются и распадаются стремительно и хаотично. Постулирование виртуального пространства предстает в виде имитации управления, поскольку виртуальная реальность представляет собой искусственные, вещественно не связанные с предметным миром среды.
При этом в условиях непредсказуемости значительный удельный вес приобретают особые «зомбирующие» программы. На. уровне культуры речь идет о так называемых «кодах-вирусах» [21: 77—86]. В условиях непредсказуемости субъект утрачивает способность адекватно воспринимать информацию, вследствие чего в его сознание внедряется определенная программа поведения. Одним из средств в такой системе управления является управление прогнозами. При этом общеизвестно, что в культуре как определенном коде для хранения и передачи управленческой информации отпечатываются, как правило, катастрофические или негативные прогнозы.
На наш взгляд, более глубокому пониманию сущности современных процессов и управления ими способствует не столько понятие ризомы как децентриро-ванной структуры в постмодернизме, сколько понятие сети. В современной литературе, посвященной анализу культуры, процессов глобализации, достаточно большое внимание уделяется так называемым «сетевым технологиям управления реальностью». Сетевой подход и само понятие сети были впервые выработаны в когнитивных науках, связанных с компьютерным моделированием информационных процессов [25]. Основным подходом к сетевой трактовке реальности стала концепция радикального конструктивизма.
Когда читатель впервые сталкивается с понятием «конструктивизм», то испытывает целый ряд затруднений, связанных с его трактовкой. Широко известно, что конструктивизм был одним из направлений в советском искусстве в 20-х гг. ХХ в. Этимология слова, «конструктивизм» отсылает нас к понятию «конструкция» (лат. сonstructio) — строение, взаимное расположение частей какого-либо сооружения. Из данного определения становится очевидным, что понятие конструкции обозначает взаимосвязанность, взаимное расположение частей относительно друг друга, т. е. их определенную, в первую очередь, структурную организацию.
Понятие «конструкция» является достаточно распространенным в архитектуре и живописи. В архитектуре оно обозначает строение здания (сооружения), в изобразительном искусстве — структуру картины с точки зрения психологических соотношений элементов. Именно поэтому в картине за «конструкцией» закреплена роль психологического воздействия на зрителя.
Для Гегеля «конструкция» представляет собой «материал», добытый в ходе познания и необходимый для образования понятий. При этом конструкция означает как бы систему отношений («образование средних членов»), в которых в опосредованном виде содержатся нетождественные друг другу определения: «так как эти определения различны, то их тождество есть опосредованное тождество. Добывание материала, образующего средние члены, есть конструкция, и само опосредование, из которого для познания вытекает необходимость указанного отношения, есть доказательство» [7: 414]. Ф.В.Й. Шеллинг вводит понятие научной конструкции как требование строгой проверки на истинность умозрительных (в первую очередь скептических) заблуждений [26].
Несмотря на то, что немецкой классической философии были совершены некоторые шаги в осмыслении понятия конструкции, оно не нашло своего должного закрепления в этой области. Кроме того, оно практически не проясняет и смысл термина «конструктивизм», который многозначен по своему содержанию.
На наш взгляд, наиболее четкое разграничение смыслового содержания термина «конструктивизм» было предложено одним из его основоположников – П. Ватцлавиком. Согласно П. Вацлавику, термин «конструктивизм» является не совсем удачным понятием, «поскольку, во-первых, оно уже встречалось в употреблении в области традиционной философии с несколько другим смысловым оттенком; во-вторых, в начале двадцатых годов оно обозначало существующее в Со- ветском Союзе в течение непродолжительного времени движение в области изобразительного искусства и архитектуры; и, в-третьих, из-за своего чуждого немецкому языку звучания» (цит. по: [25: 5]).
П. Вацлавик определяет конструктивизм как «науку о действительности», поскольку его исходным постулатом является признание действительности как конструкции того, кто ее наблюдает, то есть конструкцией самого наблюдателя [42: 7]. В соответствии с данным пониманием, термины «конструктивизм» и «радикальный конструктивизм» оказываются практически приравненными друг к другу, поскольку подтверждают убеждение в том, что любое знание активно конструируется субъектом. При этом под субъектом, как мы уже отмечали выше, может подразумеваться наблюдатель (человек), организм или живая система.
Радикальность же конструктивизма, по мнению Э. фон Глазерсфельда, состоит в том, что он отграничивает себя от классической эпистемологии в вопросе о соотношении знания и объективной действительности. Его позицию можно назвать шокирующей классическую эпистемологию, поскольку она подрывает основы «метафизического реализма» [8: 67]. Не менее шокирующе выглядят конструктивистские идеи в области философии культуры. Рассмотрим вопрос о статусе концепции радикального конструктивизма в системе современного научного знания.
Согласно радикальному конструктивизму, наше восприятие, мышление, воспоминания человека не являются отражением объективной реальности, а производят собственную действительность [31: 228]. Поскольку человек конструирует вокруг себя собственную действительность, то люди являются автономными и рекурсивно-организованными системами [36: 80]. Эти положения разрабатываются в контексте интегративносистемного подхода. Для создания строгой методологии радикальный конструктивизм опирается на научные теории, приобретая собственную концептуальную базу. Рассмотрим связь концепции радикального конструктивизма с рядом научных течений.
В качестве одной из методологических основ концепции радикального конструктивизма можно считать кибернетику. Разработка таких понятий, как «организационная замкнутость», «обратная связь», «саморегуляция», была унаследована радикальным конструктивизмом от кибернетики. По мнению конструктивиста и антрополога Г. Бейтсона, заслуга кибернетики состоит в том, что «кибернетика и теория систем дают возможность создать совершенно новую эпистемологию, включающую новое понимание психики, “Я”, человеческих отношений и власти» [2: 331].
Радикальный конструктивизм имеет много общего и с квантовой механикой. В первую очередь это касается вопроса интерпретации реальности. В 70—80-е гг. ХХ в., ко времени возникновения радикального конструктивизма, общая теория систем получает свое окончательное оформление благодаря развитию экономикоматематического моделирования, неравновесной термодинамики, синергетики, теории операций, теории катастроф и концепции сложности. Привнесение качественно нового системного взгляда на окружающий мир изменило научные представления о природе знания, способах функционирования сложных биологических и социальных систем. Существенным методологическим сдвигом явилось и новое сложное понимание реальности как целостного множества иерархически связанных между собой систем с соответствующими структурными объектами [23: 1148]. Эта точка зрения объединяет научно-теоретические положения радикального конструктивизма и некоторые выводы из теории квантовой механики (Н. Бор, Л. де Бройль, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, П. Дирак).
Согласно квантовой механике, «реальность творится в результате измерения и осознания наблюдателем результата измерения» [18: 70]. При этом такие измерения действительности могут создавать совершенно разные, равноправные реальности, существующие параллельно друг другу. Согласно квантовой механике, альтернативных миров столько, сколько результатов измерения. При этом сознание наблюдателя как бы рассеяно между созданными им самим измерениями. При этом и в квантовой механике, и в радикальном конструктивизме утверждается, что наблюдатель ограничен в познании, поскольку индивидуальное сознание воспринимает происходящее так, будто существует лишь одна альтернатива, в которой он живет. Человек видит лишь ограниченную часть мира или, согласно квантовой механике, живет лишь в одной из альтернативных реальностей. Так, немецкий философ К. Хюбнер пишет, что, несмотря на значительные сдвиги в познании мира, универсум все еще по большей части мыслится в соответствии с картезианской моделью: «реальность понимается как данность, состоящая из частей и их свойств, но не из взаимоотношений между этими частями. Эта точка зрения отменяет системный взгляд на мир — что наше существование есть только возможность стать реальностью, но не сама реальность» [37: 80].
Реальность представляет собой неразрывное единство составляющих ее частей: сам наблюдатель является неразрывной частью своих наблюдений. В роли наблюдателя могут выступать как социальные субъекты, так и сама система. Именно в рамках подобного неклассического подхода радикальный конструктивизм делает попытку переосмысления таких понятий, как «жизнь», «обучение» и «культура», расширяя, тем самым, предметную область квантового представления о реальности и постулата о системном характере мироздания. Как отмечает немецкий исследователь Г. Штайн, в разработке понятия реальности квантовая теория имеет много общего с психологией и философией, особенно с восточной традицией мышления в философии [39: 35].
Думается, что радикальный конструктивизм и квантовую механику объединяет не только специфическое понимание реальности, но и тезис об объективности информации. Объективность информации заключается в том, что информация имеет нелокальный характер. Другими словами, это означает, что существует некоторое информационное поле, имеющее бесконечное число измерений. Данное информационное поле содержит в свернутом виде данные о прошлом, настоящем и будущем как совокупность многовариантного сценария развития событий в реальности.
Следует отметить, что становление научной теории радикального конструктивизма происходило параллельно с развитием экологического мышления. Именно в рамках экологического мышления, по мнению Ф. Капры, «выкристаллизовывалась» новая парадигма фундаментальной взаимозависимости всего живого, получившая название «глубинная экология». Термин «глубинная экология» был введен А. Нейсом в 1973 г. как учение о взаимосвязи частей всего целого: «в течение тысячелетий западной культурой все более овладевала идея превосходства, господства: господства человека над всей остальной Природой, мужчины над женщиной, богатых и сильных над бедными, превосходства Запада над всеми не-западными культурами. Глубинное экологическое сознание позволяет нам видеть дальше этих ошибочных и опасных иллюзий, поскольку глубинная экология, учение о нашем месте в хозяйстве Земли, включает и учение о нас самих как части органического целого» [10: 34].
Становление принципов системного мышления и переход к экологической парадигме означал отказ от редукционистской (механистической) концепции целостности, в которой целостность сводилась к сумме составляющих ее частей. В глубинной экологии был сделан акцент на целое. Это целое понимается как органически связанное со своими частями, как существующее только благодаря их взаимодействию и взаимообмену, обеспечивающим, в свою очередь, существование частей в лоне целого. Целое и части понимаются как органически взаимосвязанные между собой.
Этот принцип взаимосвязи части и целого обозначен в науке как холизм: «согласно системному взгляду, существенными свойствами организма, или живой системы, являются свойства целого, которыми не обладает ни одна из его частей. Новые свойства возникают из взаимоотношений между частями. Эти свойства нарушаются, когда система рассекается, физически или теоретически, на изолированные элементы. Хотя мы можем распознать индивидуальные части в любой системе, эти части не изолированы, и природа целого всегда отличается от простой суммы его частей» [15: 44].
Корни концепции радикального конструктивизма лежат и в области теоретической биологии. Заслуга в разработке «общей теории систем» в области биологии принадлежит австрийскому биологу-теоретику Л. фон Бер-таланфи. Именно Л. фон Берталанфи выдвинул основные принципы динамической организации биологических систем, создал концептуальный аппарат описания систем различного типа. В книге «Роботы, люди и сознания» он описал основные характеристики живых систем: непрерывный обмен между компонентами на всех уровнях организации, иерархичность и изоморфизм, открытость, обратная связь, высокая степень энтропии или целостность [29: 69—73]. В этой книге Л. фон Берталанфи доказывает тезис о саморегуляции живых систем на основе реализации принципа обратной связи.
Согласно определению Л. фон Берталанфи, обратная связь представляет собой замыкание операций внутри системы посредством осуществления связей между элементами. Но данное видение расходится с кибернетическим пониманием систем, поскольку в кибернети- ке речь идет, согласно Л. фон Берталанфи, о закрытых системах. Живые же системы открыты, поскольку постоянно обмениваются с окружающей средой энергией и информацией. Но их отличительным свойством является еще и то, что при своей открытости они могут поддерживать некое постоянство, т. е. свою целостность, посредством саморегуляции. В радикальном конструктивизме живые системы выступают так же, как открытые и обладают свойством поддержания собственной целостности на основе автопоэзисного производства коммуникаций.
В связи с этим Л. фон Берталанфи критикует виталистическую концепцию систем немецкого биолога Г. Дри-ша [12]. Принцип витализма был впервые сформулирован во Франции ученым Л. Дюма. В ХХ в. появляется его продолжение — критический неовитализм, основанный на опытах по механике развития (Г. Дриш).
Витализм представляет собой учение, согласно которому в основе целостности лежит «целесообразно действующий фактор» — жизненная сила ( лат. vis vitalis). Поддержание такого свойства, как целостность, становится возможным за счет некоего регулирующего принципа. Согласно Л. фон Берталанфи, в качестве такого принципа, управляющего жизнедеятельностью организма, можно назвать энтелехию [29: 75].
По мнению Л. фон Берталанфи, посредством признания управляющего принципа витализм превращает живую систему в некий аналог машины, которой необходим внешний двигатель или толчок. Открытые системы в таком толчке не нуждаются, поскольку они являются неравновесными динамическими системами, регулирующими свое равновесие посредством операций самой же системы. Эта характеристика неравновесных систем была названа Л. фон Берталанфи принципом «эквифи-нальности», т. е. состояния независимости системы от начальных условий, когда свойства системы и ее поведение определены, заданы ее собственными параметрами.
Такие основные характеристики живых систем, как открытость, саморегуляция на основе обратной связи и целостность присущи не только физиологическим, но также и социальным системам. Радикальный конструктивизм во многом заимствовал теоретические разработки системной теории Л. фон Берталанфи, применив их в разработке теории коммуникативных систем.
Радикальный конструктивизм соприкасается и с гештальттеорией. Одним из вариантов системного подхода в психологии стала гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, Ф. Перлз). Она возникла в Германии в начале ХХ в. как ответ на бихевиоризм. Научное оформление теория получила в результате опытов со стробоскопом (прибором, фиксирующим дискретные изображения) и изучением так называемого «фи-феномена». Центральным понятием гештальттео-рии является понятие «гештальт» ( нем. gestalt – форма, структура). Тесную связь между радикальным конструктивизмом и гештальттеорией можно проследить исходя из анализа ключевого для последней понятия «гештальт».
Гештальт обнаруживает себя как структурированное, открытое, динамическое целое, то становящееся семантическое поле, в котором личностное знание себя обнаруживает [1]. Понятие гештальта близко к понятию структурирующего паттерна (от англ. pattern – модель, образец) в эпистемологии Г. Бейтсона. Г. Бейтсон определяет паттерн как устойчивую, структурированную локальную систему коммуникаций.
Следует отметить, что понятие гештальта широко используется в философии культуры. Так, О. Шпенглер понимал под гештальтом идею, которую должна воплощать в себе та или иная культура, некое идеальное состояние культуры, резонирующее с действительным состоянием [27]. У К.Г. Юнга гештальт является целостной, когнитивной формой коллективного восприятия в культуре. Архетипы, по Юнгу, это исторические, бессознательно наследуемые формы, которые сами по себе лишены определенного содержания.
Еще одним общим местом, помимо понятия гештальта, объединяющим гештальтпсихологические и когнитивные теории, является утверждение, что познание — это создание и конструирование ментальной действительности, которая отражает внешнюю реальность не зеркально. Центральной проблемой гештальттеории является целостное восприятие. Радикальный конструктивизм исходит из продуктивности человеческого мозга и его способности автономно конструировать реальную действительность «при развитии преимущественно образных и эмоционально реализуемых представлений» [43: 5]. Данные положения имеют в радикальном конструктивизме не только философские, но и биологические обоснования при построении конструктивистской теории познания и обучения, развитой в работах чилийского исследователя У. Матураны [32].
Гештальтпсихологи утверждают, что человек мыслит гештальтами, конструкциями. Вся социокультурная реальность образована конструкциями, которые человек создает в своем опыте. Одной из главных проблем в гештальттеории является взаимодействие наших конструкций действительности с самой действительностью [32: 17]. В радикальном конструктивизме это различие обозначается в терминах «карта» и «территория» (в эпистемологии Г. Бейтсона).
Радикальный конструктивизм следует отличать от социального конструктивизма, получившего распространение в социальной философии. Социальный конструктивизм подчеркивает значение социальной деятельности при конструировании действительности. Особенность человеческого мышления состоит в активном конструировании социальной действительности. Социальный конструктивизм, в отличие от радикального конструктивизма и конструктивизма вообще, представляет собой программу постмодернистского социологического исследования науки (STS — исследование науки и технологии).
Радикальный конструктивизм в трактовке действительности парадоксально смыкается с хайдеггеровской трактовкой языка как «дома бытия». Все мироздание опутано языковыми отношениями, превращаясь в «глобальную империю языка»: «когда мы понимаем язык как речь, мы игнорируем сложность мира и теряем достигнутый в языке смысл интерсубъектного соглашения» [41: 60]. В итоге социокультурная действительность принимает вид сложноразветвленной языковой сети.
С точки зрения математической теории и информатики сеть представляет собой граф. Любой граф состоит из узлов, которые называются вершинами, и связей – ребер. Графы могут иметь как центрированную (иерархическую), так и децентрированную структуру. Также существуют графы с конечным и бесконечным числом вершин и ребер. К примеру, к конечным графам можно отнести нервную систему человека, рыболовную сеть, городские телефонные системы. К бесконечным — Интернет, когда одна ссылка выступает в виде сгущения коммуникативных отношений, стоящих за ней, последующая ссылка содержит новые коммуникации и так до бесконечности.
Сеть представляет собой «ориентированный граф, в котором каждому ребру приписано определенное число – это может быть длина ребра или его пропускная способность, или вес и так далее» [9]. Сеть состоит из петель обратной связи и обладает способностью к самокорректировке и самообучению. Посредством последнего сеть сама структурирует коммуникативные отношения на разных уровнях и в разных локальных сетях. Таким образом, конструирование коммуникаций может происходить в отличных друг от друга контекстах, принадлежащих одной и той же сети.
В современной науке, в частности в социологии, глубокие теоретические разработки понятия сети можно найти в трудах современного французского социолога науки Б. Латура [33]. Лозунг Нового времени, по мнению Б. Латура, — «сети везде». По мере развития сеть все более усложняется. В нее встраиваются другие сети, причем то, что видимо на одном уровне сети или реальности, совершенно невидимо на другом.
Согласно радикальному конструктивизму, действительность, представляющая собой коммуникативный контекст, образована наложениями, сгущениями и взаимодействиями информационных полей. Данные информационные поля могут представлять собой различные уровни коммуникативной системы, которые структурированы в контекст. При этом вся действительность приобретает характер саморегулирующейся замкнутой сети в силу наличия в ней петель обратных связей, т. е. откликов системы на коммуникативные взаимодействия.
Радикальный конструктивизм во многом сходен с постмодернизмом; в частности, это касается тезиса о конструируемом характере культуры. Но если принять толкование культуры как непрерывной сети коммуникативного взаимодействия, то остается открытым вопрос о том, что именно является связующей нитью данного взаимодействия, что заставляет удерживать социальное и культурное многообразие в целостности, чтобы не дать самой культуре распасться на отдельные фрагменты? Постмодернизм оставляет этот вопрос открытым. Следует отметить, что с самого своего возникновения основной техникой постмодернизма было разрушение именно центрированной модели культуры. Он не заявлял претензий на создание новой модели культуры. Таким образом, постмодернизм стал техникой деконструкции реальности, а не методологией ее исследования.
Отличие сетевой модели культуры радикального конструктивизма от модели децентрации в постмодернизме состоит в постулировании еще одной важной ха- рактеристики сети – принципа обратной связи. Следует заметить, что некоторые уточнения понятия обратной связи, или организационной замкнутости, можно найти еще в трудах известного кибернетика Н. Винера. Согласно Н. Винеру, обратная связь представляет собой «свойство, позволяющее регулировать будущее поведение прошлым выполнением приказов» [6: 29]. Н. Винер различает элементарные обратные связи (в основе которых лежат сигналы, поступающие из внешней среды, и ответные действия на них) и обратные связи на высшем уровне. Существенной характеристикой последних является то, что они не только фиксируют успешность/ неуспешность прохождения какого-либо препятствия, решения какой-либо трудной задачи, но и позволяют субъекту изменить план своего поведения, чтобы эффективно завершить то или иное действие.
Феномен деструктивного воздействия окружения на систему достаточно интересно, на наш взгляд, представлен отечественным исследователем А.В. Назарчу-ком на примере экономических систем: «экономический коллапс может привести к гибели многих общественных подсистем, однако при этом каждая будет “умирать” в собственной “агонии”, вследствие исчезновения собственных коммуникаций. В условиях экономического кризиса политика “срывается на крик” на языке не денежных трансакций, но политических коммуникаций (заявления, запреты, программы, смены правительства и т.д.)» [19: 137].
Как мы уже отмечали выше, сеть представляет собой открытую и неограниченную структуру, расширяющуюся посредством коммуникации, посредством включения все более новых взаимодействий. В современных условиях сетевой характер приобретают экономическое пространство, сфера власти, а также сфера культурной идентичности. Сетевые теории описывают современную ситуацию как взаимное влияние друг на друга информации и культуры в сети. Культура становится глобальным потоком информации.
Повышение индивидуализации в современном обществе способствует складыванию рациональности «нового типа». Если в традиционном обществе субъект был четко соотнесен с конкретной социальной структурой, то в постиндустриальном обществе он утрачивает естественные локусы контроля и начинает занимать положение в нескольких социальных структурах, как бы «мелькая» на фоне институциональных практик.
Поскольку основным содержанием глобализации становятся именно экономические отношения, то это позволяет говорить о складывании особого типа «экономической рациональности». Как отмечает отечественный исследователь А.Б. Фенько, экономическую рациональность можно представить двумя параметрами: во-первых, это возможность рационального выбора между материальными объектами; во-вторых, «институционализированная ценность», т. е. «стандарт поведения, которому стремится следовать большинство отдельных лиц и организаций» [4: 156].
При этом важнейшим институтом, опосредующим взаимоотношения между социальными субъектами, является рынок. Рынок – это специфический тип социального обмена, поскольку позволяет посредством об- мена удерживать нетождественных друг другу индивидов в некоторой искусственной, согласованной матрице социального поведения. Рынок является одной из форм осуществления капитала как регулятора рыночных отношений. При этом социальная структура предстает как «определенный вид текущих и стандартных отношений между агентами, которые поддерживаются через санкции» [22: 201]. Функции подобных санкций могут выполнять, например, система ценообразования или объем вложенных инвестиций.
Поскольку на первый план в рыночных отношениях выходят структуры обмена, то учитываются только взаимоотношения между социальными субъектами, а не внутренние возможности, ожидания, ценности, реализуемые последними. Речь здесь идет о неких поведенческих структурах, представляющих собой естественный способ взаимодействия субъекта с окружающим миром. Поскольку в глобальном сообществе субъект не может контролировать происходящие процессы, то ему остается только система тактик, а именно вето контроля над своим локальным местом в теле социального целого.
Подобная тактика выражается как интерес. Субъект, находящийся в сфере интересов, может беспрепятственно и, что немаловажно, безболезненно перемещаться из одной социальной структуры в другую. Таким образом, социальная структура предстает как столкновение, согласование и рассогласование частных интересов. Можно сказать, что в системе происходит аккумуляция незапланированных возможностей, т. е. повышается «критическая масса» риска для существования стабильности социальной системы.
Рынок формирует вокруг субъекта некоторое искусственное пространство действия, пространство Praxis, в котором «неполадки», возникающие при столкновении частных интересов, считаются самоустраняемыми. Как отмечает американский исследователь Э. Маккейн, вокруг субъекта образуется сакральное пространство рыночной паутины, вызывающей бесконечные «смещения социальных структур», наложения их друг на друга как в плане вертикальной мобильности, так и в плане социальной стратификации. Эффект смещения призван «замаскировать» первичные, естественные отношения между социальными субъектами и репрезентировать их в форме вторичных: «одни трансакции исключают другие, желания и ожидания в процессе обмена маскируются. Желание, ожидание, реакция предстают как более поздние образования, но в символическом обмене они маскируются и предстают как первичные» [35].
В результате все пространство экономического обмена принимает вид сети, образованной вертикальными и горизонтальными наложениями. Таким образом, в сакральном пространстве рынка субъект вовлекается в искусственные смыслы. Субъект видит их в качестве сознательно конструируемых и контролируемых им, в то время как имеют место широкие сети безличных рыночных структур.
Экономика становится полем для осуществления целерационального действия. Как известно, концепция целерационального действия была предложена немецким социологом М. Вебером. Под целерациональным действием он понимал такой тип социального поведения, который более всего в среднем соответствует, по субъективной оценке индивидов, их естественным интересам, ориентирует поведение субъектов.
Экономическое пространство «эвфемизирует» субъекта и его интерес так, что становится невозможным узнавание какой-либо достоверной и объективной истины. Субъект, находящийся в поле Praxis, предстает как автономное существо и как главный источник этой автономности: «автономия означает не полную ясность и тотальное устранение дискурса Другого, но установление новых отношений между дискурсом Другого и субъектом» [17: 119—120]. Другим словами, субъект находится в сфере воображаемого социального смысла или, точнее, полной бессмыслицы. Создание бессмыслицы или хаоса в системе может быть вполне рациональным конструированием, т. е. может осуществляться адресным способом. Но особенностью такого взаимодействия является то, что источник создания бессмыслицы является невидимым, «затемненным» для наблюдателя.
Человек, если использовать для описания его существования метафоры, оказывается «простым узелком» в воображаемых сетях производства смыслов: «фантазм организации как хорошо слаженной машины смешивается с фантазмом самоорганизующейся и саморас-ширяющейся машины» (Там же: 178). Подобная самоорганизующаяся машина, по меткому выражению К. Касториадиса, создает пространство «тотализирую-щей псевдорациональности».
Таким образом, система функционирует как автоматическая целостность, производящая бесконечные смыслы как бессознательные системные желания. Последние на уровне самого субъекта предстают как вполне сознательные и поддающиеся контролю. Создается так называемое «пространство псевдорационального» в качестве безумия или фантазма «желающей машины».
Создание социокультурной целостности на фоне практик псевдорациональности считается возможным за счет простого объединения интересов конкретных людей. Но характер подобного объединения нельзя назвать целостным. Он имеет индивидуальный характер и отражает механическое, но не системное взаимодействие индивидов. Для объединения в собственно человеческом смысле необходима, прежде всего, некая духовная собственность (традиции, менталитет), т. е. не экономический, а символический капитал.
Радикальный конструктивизм развертывает детальную критику целостности как совокупности целераци- ональных решений. Согласно Н. Луману, ни одно общество не запланировано, поскольку реализация планов производится внутри самой социокультурной системы посредством различения произведенных операций. Планирование и реализация представляют собой лишь одну из человеческих попыток простого описания сложной и многомерной социальной реальности: «рациональный интерес индивида может не совпадать с логикой самой системы. При столкновении с любым типом индивидуального планирования и рационализации система автоматически вырабатывает собственную версию развития. Результатом этого является формирование искаженного описания реальности» [34: 118].
Именно это искаженное описание реальности, создаваемое системой, будет представляться субъекту в качестве истинного. Человек может рефлексировать, планировать, рационализировать действительность, но он не может подчинить своей логике систему, поскольку эволюция самой системы происходит без какой-либо логики и предвидения. Согласно Н. Луману, социальная система может изменять свои структуры только в процессе эволюции. Эволюция предполагает само-референциальное производство и изменение структурных условий воспроизводства путем механизмов различения, селекции и стабилизации. Она может привести к созданию системы с высокой степенью сложности, производить неоправданные события, которые наблюдатель будет воспринимать как «прогресс». Только теория эволюции, по Н. Луману, может объяснить структурные трансформации от сегментации до дифференциации, которые происходят в мировом обществе, и только наблюдатель может увидеть это как прогресс.
Согласно Н. Луману, существование социальной системы всегда заключается в постоянном разрешении парадоксов. Социальная система потенциально конфликтна, поскольку включает в себя противоречащие друг другу коммуникации. И в этом плане социальное целое является незапланированным, иррациональным, не зависящим от входящих в его состав элементов. С другой стороны, существование такого целого обеспечивается наличием определенного когнитивного непонимания своих же собственных операций. Так, согласно теореме Геделя о неполноте [20: 86—88], непротиворечивое полное самопонимание системы в пределах ее замкнутой самости принципиально невозможно. Система всегда противоречива. Как представляется, неполнота нашего знания о мире — это системный недостаток знания, необходимый для успешного функционирования системы и ее воспроизведения в качестве автопоэзной.
Постулирование непредсказуемости и неуправляемости глобальных процессов в идеологии глобализации имеет целью создание дефекта восприятия объективной реальности. Однако для других субъектов в то же самое время одно и то же явление может быть вполне предсказуемым и управляемым. Важно, что такое невидимое управление самими субъектами воспринимается не как действие каких-то внешних сил, а как процесс объективного самоуправления системы. Другими словами, в условиях глобализации субъекты могут и не подозревать, что ими управляют.
Введение понятия информации ставит вопрос об определенном информационном выживании культуры, ее информационной безопасности. С позиций теории управления, информационная безопасность представляет собой устойчивый процесс управления объектом в условиях целенаправленных внешних или внутренних информационных воздействий с целью выведения управляемого объекта из предписанного режима. Любым информационным системам необходимо поддержание оптимального уровня информационного равновесия, который, как выясняется, возможен только в условиях контроля над реальностью, но не в условиях ее децентрализации.
Характер развития современных глобализационных процессов указывает, что роль социокультурного регулирования социальной сферы общества, к сожалению, пока не осмыслена на должном уровне: «ни одно из обществ современного мира не отказалось еще от традиции и от пользования привилегией. Чтобы добиться такого отказа, потребовалось бы ниспровергнуть все общественные иерархии, а не только иерархии денежные, не только иерархии государственные, не только социальные привилегии, но также и разнообразную тяжесть прошлого и культуры. <...> . Трезвомыслящей революции пришлось бы не без великого труда разрушить то, что надлежит разрушить, и сохранить то, что надлежит сохранить: свободу на базовом уровне, независимую культуру, рыночную экономику без фальсификации и немного братства» [3: 649]. Но в условиях глобализации и распада всех смыслов это представляется слишком большим требованием. ..
Список литературы Постмодернизм и радикальный конструктивизм как модели современной культуры
- Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/iphras/library/arshinov/glava1.html.
- Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии: пер. с англ. М.: Смысл, 2000. С. 331.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. = Le Temps du monde. Т.3: Время мира. М.: Прогресс, 1992. С. 649.
- Буряков Г.А. Сетевая модель развития финансового капитала в условиях глобализации//Философия хозяйства. 2005. № 6. С. 156-164.
- Вертгеймер М. О гештальттеории//Хрестоматия по истории психологии/под ред. Л.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 86.
- Винер Н. Человек управляющий. СПб.: Питер, 2001. С. 29.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 1: Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 414.
- Глазерсфельд Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 2001. № 4. С. 67.
- Губайловский А. В. Человек в цифровом океане [Электронный ресурс]. URL: http://lit.lib.ru/g/gubajlowskij_w_a/text_0050.shtml.
- Деволл Б. Глубинная экология. Киев: Киев. экол.-культ. центр, 2005. С. 34.
- Деррида Ж. Différance//Тексты деконструкции/Е. Гурко. Томск: Водолей, 1999. С. 133.
- Дриш Г. Витализм: Его история и система/авт. пер. А.Г. Гуревича. М.: Наука (Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и К), 1915. 280 с.
- Жукова И.В. Понятие геополитических парадигм как инструмент анализа глобальных политических процессов [Электронный ресурс]. URL: http://www.espi.ru/Content/Conferences/Papers2006/2006razd4/Zhukova.htm.
- Кант И. Критика чистого разума/пер. с нем. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. С. 49.
- Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем: пер. с англ./под ред. В.Г. Трилиса. Киев: София; М.: ИД «Гелиос», 2002. С. 44.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- Касториадис К. Воображаемое установление общества/пер. с фр. Г. Волковой, С. Офертаса. М.: Гнозис: Логос, 2003. С. 119-120.
- Менский М.Б. Человек и квантовый мир. Фрязино: Век, 2005. С. 70.
- Назарчук А.В. Теоретико-политические воззрения Н. Лумана//Полис. 2006. № 3. С. 137.
- Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании. Ч. I: Понимание разума и новая физика. М.-Ижевск: Ин-т. компьютерных исслед., 2003. С. 86-88.
- Пигалев А.И. Поток желания и сеть реальности//Вестн. ВолГУ. Сер. 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2004. Вып. 3. С. 77-86.
- Сведберг Р. Рынки как социальные институ-ты//Личность. Культура. Общество. 2002. Т. IV. С. 201.
- Фейгин О.О. Квантовый мультиуниверсум//Квантовая Магия. 2005. Т. 2. Вып. 1. С. 1148-1165.
- Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях//Психол. журн. 2000. Т. 21, № 1. С. 50.
- Цоколов С.А. Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München, 2000. С. 5.
- Шеллинг Ф.В.Й. О конструировании в философии//Сочинения: в 2 т./сост., ред. А. В. Гулыга. М.: Мuсль, 1989. Т. 2. С. 3-26.
- Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. 664 с.
- Энрайт Джон Б. Гештальт, ведущий к просветлению. Пробуждение от кошмара. М.: ИдиомаПресс, 2006. С. 64.
- Bertalanffy L. von. Robots, men and minds. Psychology in the modern world. N.Y.: N.Y. Press, 1967. P. 69-73.
- Hassan, R. Media, Politics and the Network Society. -Maidenhead [u.a.]: Open Univ. Press, 2004. P. 15-17.
- König E., Zedler P. Theorie der Erziehungswisenschaft. -Weinheim und Basel, 2002. S. 228.
- Maturana H. Kognition//Schmidt S. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Auflage. Frankfurt am Main, 1991. 364 s.
- Latour B. Elend der Kritik. Vom Krieg um Fakten zu Dingen von Belang. Zurich-Berlin: Diaphanes, 2007. 60 p.
- Luhmann N. Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt am Main, 2002. S. 118.
- McKenna A. Religious Difference [Электронный ресурс]. URL: http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0401/AM_DERR.htm.
- Müller K. Konstruktivistische Fremdsprachendidaktik: Lerner -und handlungsorientierter Fremdsprachenuntericht aus neuer Sicht. Tübingen, 1996. S. 80.
- Rasch W. Nicklas Luhmann's Modernity. The Paradoxes of Differentiation. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 2000. P. 80.
- Sen A. Die Identittätsfalle: Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Bonn: Bundenszentrale für Politische Bildung, 2007. S. 137.
- Stein H. Quantenphysik, Neurowissenschaften und die Zukunft der Psychoanalyse: Auf dem Weg zu einen neuen Menschenbild. Gieben: Psychosozial -Verlag, 2006. S. 35.
- Thrift N.J. Knowing capitalism. London [u.a.]: SAGE Publ., 2005. Р. 51.
- Tietz U. Heidegger. Leipzig: Reclam, 2005. S. 60.
- Watzlawick P. How Real is Real? Boston: Boston U.P., 1979. P. 7.
- Wendt M. Konstruktivische Fremdsprachen didaktik: Lerner -und handlungsorientierter Fremdsprachenuntericht. Tübingen, 1996. S. 5.