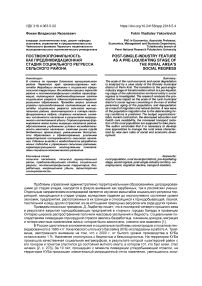Постмонопрофильность как предликвидационная стадия социального регресса сельского района
Автор: Фокин Владислав Яковлевич
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье па примере Еловского муниципального района Пермского края проанализированы масштабы деградации экономики и социальной сферы сельской территории. Исследован процесс перехода района в постмонопрофильную стадию трансформаций, являющуюся предликвидационным этапом социального регресса административно-территориального образования. Проведен анализ влияния утраты производственной составляющей на масштабы социального регресса сельского муниципального района, заключающегося в потере квалифицированных кадров, старении населения, снижении численности населения в результате миграционной и естественной убыли. Спрогнозировано формирование новой волны миграции населения района, обусловленное ухудшением условий жизнедеятельности местного населения: сжатием рынка труда бюджетных организаций, уменьшением доступности образования и здравоохранения, усилением транспортной изолированности сельского населения. Сделаны выводы о необходимости разработки новых подходов к управлению сельскими районами, характеризующимися околонулевыми показателями социально-экономического развития.
Сельское население, сельский муниципальный район, предликвидационная стадия, социальный регресс, постмонопрофильная территория, безработица, миграционная убыль, транспортная изолированность
Короткий адрес: https://sciup.org/14940322
IDR: 14940322 | УДК: 316.4.063.5-22 | DOI: 10.24158/spp.2018.5.4
Текст научной статьи Постмонопрофильность как предликвидационная стадия социального регресса сельского района
Проблемы управления административно-территориальными образованиями, деградировавшими до стадии упадка, находятся в фокусе внимания как зарубежных, так и российских ученых. Отдельным направлением исследований является изучение масштабов социального регресса территорий, находящихся в стадии упадка, вследствие падения до околонулевого состояния уровня экономик, предприятий, расположенных в их границах и относящихся к горнодобывающей, лесной, текстильной и ряду других отраслей, из-за истощения природных ресурсов или ряда других причин.
Приведем несколько примеров. Д. Лидбитер пишет, что в последней четверти прошлого века в результате закрытия горнодобывающих предприятий в «горных» городах Канады в провинции Онтарио широкое распространение получили массовые увольнения и бедность. Социальными последствиями ликвидации горнорудной отрасли явились безработица, снижение доходов, миграция и потеря местным населением жилья, которое было заколочено, снесено или вывезено [1].
В России однотипные экономические и социальные проблемы моногородов и поселков ликвидированного в 1990-х гг. Кизеловского угольного бассейна (КУБ) исследованы в работе А. Трей-виша, заострившего внимание на том, что к 2000 г. от былого уровня производства в КУБе остался всего 1 %. Население столкнулось с бедностью и безысходностью. На территории КУБа произошла качественная социальная метаморфоза, в результате которой «шахтерский район с его гонором и почетом опустился до состояния мутного омута, в котором тот, кто был всем, стал ничем» [2, с. 273]. За 10 лет, прошедших с момента ликвидации угледобывающей отрасли, на территории КУБа произошел значительный миграционный отток населения, уменьшилось коли- чество социальных объектов, в 2–3 раза снизились показатели коммерческих перевозок и пасса-жирооборота, опустившись в Кизеловском и Гремячинском муниципальных районах, входивших в состав КУБа, до нулевых значений [3].
Автор статьи заостряет внимание на том, что как российские, так и зарубежные исследователи анализируют социальные проблемы населения в административно-территориальных образованиях – городских поселениях, находящихся на стадии упадка. Вместе с тем работы, посвященные сельским монопрофильным поселениям и сельским районам, деградировавшим до околонулевого уровня экономического и социального развития, в научной литературе практически не встречаются. Таким образом, актуальность статьи обусловлена отсутствием исследований динамики социального регресса сельских административно-территориальных образований до околонулевого уровня экономической активности и социальных процессов, характерных для постмонопрофильной стадии деградации таких территорий.
Масштабный экономический и социальный регресс сельских административно-территориальных образований первого (сельские поселения) и второго (сельские муниципальные районы) порядка в Российской Федерации является следствием ликвидации значительного числа производителей сельскохозяйственной продукции, игравших для этих территорий селообразующую (районообразующую) роль. Согласно результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСП) 2016 г. [4], за межпереписной период с 2006 по 2016 г. в Российской Федерации произошло масштабное снижение количества производителей сельскохозяйственной продукции всех категорий. За 10 анализируемых лет количество сельскохозяйственных организаций сократилось на 38,5 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на 38,8 %, а личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан – на 46,0 %.
Сокращение количества производителей сельскохозяйственной продукции произошло в основном в 41 регионе страны, характеризующемся неблагоприятными природно-климатическими условиями [5, с. 45]. Эти регионы расположены, как правило, севернее 55 °С северной широты в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале и в северо-западной части европейской территории страны. Сельские муниципальные районы, утратившие производственно-экономическую составляющую, выявлены и в Пермском крае, расположенном в восточной части Восточно-Европейской равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала.
Одним из таких территориальных образований является Еловский муниципальный район Пермского края. Район расположен в юго-западной части Пермского края, занимает площадь 1 448 кв. км. Районный центр – село Елово – находится в 203 км (3–4 часах) езды от города Перми, что говорит о периферийном местоположении района по отношению к региональному центру. К началу рыночных преобразований 53,9 % населения района, включая районный центр, проживали в хозяйствах колхозников, т. е. лиц, занятых в сельском хозяйстве (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение населения и работников колхозов в структуре населения сельских советов и сельскохозяйственных организаций Еловского района на старте рыночных реформ
|
Сельский совет |
Население, чел. [6] |
Сельскохозяйственная организация |
К L T £ CO о 5 2 s Z и Ei 5 5 S * Ф E X J z o X 5^5 Q. IO О g. |
fl R |
||
|
2 ф CD |
X tn ф s § tn о 5 X 5 о о Д X a- S a c x о m x |
2 о 5 s ° |
||||
|
Брюховский |
1 287 |
1 148 |
89,2 |
Колхоз имени Фурманова |
122 |
1999 |
|
Колхоз «Память Злыгостева» |
296 |
2006 |
||||
|
Нижнебардинский |
441 |
408 |
92,5 |
Колхоз «Заветы Ленина» |
148 |
2001 |
|
Осиновский |
571 |
511 |
89,5 |
Колхоз «Рассвет» |
215 |
2003 |
|
Калиновский |
483 |
443 |
91,3 |
Колхоз «Труженик» |
168 |
2004 |
|
Куштомаковский |
1 056 |
694 |
79,5 |
Колхоз имени Кирова |
357 |
2004 |
|
Плишкаринский |
818 |
767 |
94,9 |
Колхоз «За мир» |
318 |
2004 |
|
Малоусинский |
942 |
880 |
93,4 |
Колхоз «Россия» |
349 |
2006 |
|
Еловский |
6 111 |
694 |
11,4 |
Колхоз «Новый путь» |
366 |
2008 |
|
Крюковский |
695 |
599 |
86,2 |
Колхоз имени Калинина |
252 |
2008 |
|
Дубровский |
1 507 |
1 355 |
89,9 |
Колхоз имени Тельмана |
512 |
2014 |
|
Всего |
13 911 |
7 499 |
53,9 |
Всего |
3 103 |
|
Примечание . Информация собрана, сгруппирована и рассчитана автором самостоятельно на основе данных, содержащихся в годовых отчетах колхозов Еловского района за 1989 г. и в справочнике «Пермская область. Административно-территориальное деление» (1993).
Из данных, сгруппированных в таблице 1, видно, что на старте рыночных реформ хозяйственная деятельность в районе велась на территории 10 сельских советов в 11 колхозах, имевших общие с этими административными образованиями границы. Удельная доля колхозников и членов их семей по отношению к общей численности населения, проживавшего на территориях сельских советов района, зафиксирована в интервале от 79,5 % в Куштомаковском до 94,9 % в Плишкаринском сельском совете, что убедительно доказывает сельскую монопрофильную специализацию района.
По данным годовых отчетов колхозов за 1989 г., изученных автором, среднесписочная численность работников 11 сельскохозяйственных предприятий, включая колхозников и сезонных работников, составляла 3 103 человека. За годы рыночных трансформаций все эти сельскохозяйственные организации значительно снизили масштабы ведения сельского хозяйства, потерпели банкротство и начиная с 1999 г. были подвергнуты процедурам ликвидации или реорганизации. Ликвидация сельского хозяйства как отрасли привела к тому, что в 2016 г. в четырех сохранившихся сельскохозяйственных малых предприятиях и микроорганизациях Еловского района суммарно было задействовано всего 99 работников, а трудовые ресурсы 24 крестьянских (фермерских) хозяйств составляли 79 человек. Таким образом, результатом рыночных трансформаций стало сокращение работников сельскохозяйственных предприятий с 3 103 до 178 человек – на 2 925 человек, или 92,6 %, за период с 1989 по 2016 г.
Полная утрата кадрового потенциала, готового к профессионально-трудовой деятельности, произошла не только в сфере производства сельскохозяйственной продукции, но и в аг-росервисной и перерабатывающей сферах (таблица 2).
Таблица 2 – Перечень агросервисных и перерабатывающих организаций, прекративших функционирование в селе Елово
|
Название предприятия |
Среднесписочная численность работников в 1989 г., чел. |
Год прекращения деятельности |
|
Ремонтно-техническое предприятие (РТП) |
185 |
1998 |
|
Хлебоприемный пункт |
35 |
2002 |
|
Агропромхимия |
104 |
2005 |
|
Межхозяйственное строительное объединение |
176 |
2005 |
|
Маслосыркомбинат |
129 |
2012 |
|
Всего |
629 |
Примечание . Информация собрана, сгруппирована и рассчитана автором самостоятельно на основе данных, предоставленных Архивным отделом администрации Еловского муниципального района.
Из таблицы 2 видно, что на старте рыночных реформ в агросервисных и перерабатывающих предприятиях района было задействовано 629 работников. В результате закрытия этих предприятий все задействованные в трудовой деятельности сотрудники постепенно потеряли работу и остались без средств к существованию. Значительная часть из них впоследствии пополнила ряды вынужденных переселенцев, перебравшихся в другую местность. Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день на территории района практически полностью утрачен кадровый потенциал. Производственный потенциал ликвидированных сельскохозяйственных предприятий так же практически полностью разрушен, а земельные угодья сельскохозяйственного назначения зарастают лесом. Таким образом, Еловский муниципальный район может быть идентифицирован как сельская « постмонопрофильная территория, находящаяся в предликвидаци-онном состоянии ». Этот термин необходимо ввести в научный оборот для характеристики всех административно-территориальных образований с уровнем экономик, равным околонулевым значениям, и которым в недалекой перспективе угрожает полное обезлюдение.
Процессы ликвидации селообразующих (районообразующих) предприятий и переход Еловского района в постмонопрофильное – предликвидационное состояние сопровождались рядом негативных социальных последствий. Потерявшие работу квалифицированные руководители, специалисты сельского хозяйства, служащие, механизаторы и другие категории работников ликвидированных сельскохозяйственных, перерабатывающих и агросервисных предприятий и члены их семей были вынуждены мигрировать в другую местность или искать возможность устроиться вахтовым методом. Миграция и естественная убыль привели к снижению численности населения района с 14 127 до 9 311 человек за период с 1989 по 2017 г. Население района сократилось на 4 816 человек, или 34,1 %.
Массовая миграционная убыль населения трудоспособного возраста привела к изменению возрастной структуры населения в сторону его старения. По данным Пермьстата, в конце 2016 г. в Еловском районе насчитывалось 400 лиц пенсионного возраста, приходящихся на 1000 человек населения, а коэффициент численности работающего населения, приходящегося на одного пенсионера, снизился до 0,38. В районе обостряется проблема естественной убыли населения, обусловленная превышением показателей смертности (195 чел. в 2016 г.) над показателями рождаемости (145 чел. в 2016 г.) [7].
В настоящее время наблюдается формирование следующей волны миграции населения, обусловленной ухудшением условий жизнедеятельности местного населения. В районе происходит сжатие рынка труда бюджетных организаций, уменьшается доступность образования и здравоохранения, усиливается транспортная изолированность сельского населения. Сокращение работников администраций сельских поселений стало следствием объединения сельских поселений. В настоящее время на территории района вместо 10 сельских советов функционируют администрации пяти сельских поселений. Наблюдается отрицательная динамика количества учащихся в школах. Оптимизация системы образовательных учреждений привела к закрытию отдельных учреждений образования и снижению статуса части из них. К началу рыночных реформ в каждом населенном пункте, являвшемся административным центром сельского совета и центральной усадьбой функционирующего в границах его территории сельскохозяйственного предприятия, функционировала средняя или общеобразовательная школа – всего 11 школ. В результате ликвидации сельскохозяйственных предприятий, миграционной убыли населения и значительного снижения контингента обучающихся в 2009 и 2010 гг. была проведена реорганизация средних школ в селах Брюхово и Плишкари, трансформировавшихся в общеобразовательные школы. Общеобразовательная школа в селе Нижняя Барда, в которой в 2010 г. насчитывалось всего 24 учащихся, вообще была закрыта. Существует угроза закрытия еще 3 школ из 10 оставшихся. В условиях, когда сельская школа является единственным работодателем в населенном пункте, все села, оставшиеся без образовательных учреждений, в ближайшем будущем рискуют лишиться значительной части трудоспособного населения – педагогических работников, административно-управленческого, технического и учебно-вспомогательного персонала. Аналогичная ситуация социального регресса наблюдается в сфере здравоохранения и культуры.
Усиление транспортной изолированности населения проявляется в том, что в селе Елово закрыли автовокзал, а пассажирские перевозки населения, связывающие 38 населенных пунктов района с его административным центром, осуществляются всего по пяти маршрутам, по два рейса в неделю по каждому маршруту.
Автор заостряет внимание на том, что к настоящему времени еще в ряде сельских муниципальных районов Пермского края практически полностью утрачена производственная составляющая, а социальная сфера стремительно деградирует. Поэтому закономерным является вывод о том, что проблема постмонопрофильного – предликвидационного состояния сельских районов из локальной превращается в региональную. С учетом того, что половина регионов РФ является малопригодной для ведения сельского хозяйства, проблема приобретает национальные масштабы, поэтому должна решаться на уровне государства. Существующие сегодня программы так называемого устойчивого социально-экономического развития сельских постмонопрофиль-ных территорий, утративших экономическую составляющую и находящихся в стадии социального регресса, звучат абсолютным диссонансом на фоне характерных для них тенденций к обезлюдению. Социальное управление сельскими территориями, подобными Еловскому муниципальному району Пермского края, требует разработки новых подходов в управлении, опирающихся на признание наличия постмонопрофильных территорий, достигших предликвидационной стадии социального регресса, подверженных риску потери локальных территориальных сообществ в масштабах отдельных сельских поселений и сельских районов.
Ссылки:
-
1. Leadbeater D. Mining Towns and the New Hinterland Crisis // Canadian Dimension. 2004. Vol. 38, no. 5. P. 41–44.
-
2. Трейвиш А.И. Парадоксы депрессивных территорий России на примере Кизела и Ивановской области // Местное
самоуправление в современной России. М. ; Владимир, 2007. 440 с.
-
3. Тургель И.Д., Курицева Ю.Е. Территории Кизеловского угольного бассейна: десять лет после реструктуризации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 28 (85). С. 27–34.
-
4. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. по муниципальным образованиям Пермского края / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Т. 2. Пермь, 2017. 305 c.
-
5. Милосердов В.В. Проблемы импортозамещения в системе продовольственной безопасности России // Известия Международной академии аграрного образования. 2016. № 29. С. 41–47.
-
6. Пермская область. Административно-территориальное деление. Кудымкар, 1993. С. 66–67.
-
7. Статистический ежегодник Пермского края – 2016 : стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017. 380 с.
Список литературы Постмонопрофильность как предликвидационная стадия социального регресса сельского района
- Leadbeater D. Mining Towns and the New Hinterland Crisis//Canadian Dimension. 2004. Vol. 38, no. 5. P. 41-44.
- Трейвиш А.И. Парадоксы депрессивных территорий России на примере Кизела и Ивановской области//Местное самоуправление в современной России. М.; Владимир, 2007. 440 с.
- Тургель И.Д., Курицева Ю.Е. Территории Кизеловского угольного бассейна: десять лет после реструктуризации//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 28 (85). С. 27-34.
- Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. по муниципальным образованиям Пермского края/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Т. 2. Пермь, 2017. 305 c.
- Милосердов В.В. Проблемы импортозамещения в системе продовольственной безопасности России//Известия Международной академии аграрного образования. 2016. № 29. С. 41-47.
- Пермская область. Административно-территориальное деление. Кудымкар, 1993. С. 66-67.
- Статистический ежегодник Пермского края -2016: стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017. 380 с.