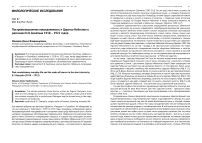Постреволюционная повседневность и царство небесное в рассказах Е. И. Замятина 1918-1922 годов
Автор: Макаров Д.В.
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филологические исследования
Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются три рассказа Евгения Замятина («Дракон», «Пещера» и «Тулумбас»), написанные с 1918 по 1922 годы. Автор представляет эти произведения как особый цикл рассказов о повседневной жизни революционного Петрограда и бытии человека в трагедийных обстоятельствах современности.
Творчество е.и. замятина, утопия, царство небесное, скоморошество, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/14219778
IDR: 14219778 | УДК: 82
Текст научной статьи Постреволюционная повседневность и царство небесное в рассказах Е. И. Замятина 1918-1922 годов
Для анализа выбраны три рассказа «Дракон», «Пещера» и «Тулумбас». Их объединяет то, что они написаны Е. Замятиным с 1918 по 1922 годы, посвящены изображению картин постреволюционной повседневности и составляют своего рода небольшой цикл о бытии человека в трагедийных обстоятельствах современности. Появление этих рассказов определило место Замятина в литературном процессе и создало ему репутацию писателя доставляющего удовлетворение «самым ярым врагам Октября» [Воронский 1922: 61]. В этих рассказах Замятин вгляделся в сегодняшний день с христианской позиции. М. Чудакова отметила, что Замятин увидел в сегодняшнем дне «главное - остановленность, признаки начинающейся стагнации» [Замятин 1990: 510]. Но это ещё очень мягко сказано. Не просто остановленность показал писатель, но движение назад - в «пещеру» Каменного века: «Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завёрнутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья - пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне» [Замятин 1990:167].
Специфика художественного осмысления повседневной реальности Замятиным в данных рассказах, во многом, определяется своеобразной (вывернутой наизнанку) иронией. Ирония Замятина имеет своим истоком народную смеховую скоморошью культуру и является продолжением гоголевского «смеха сквозь слезы», только наоборот: «слезы сквозь смех». При этом мысль Замятина футуристична, направлена в будущее: не ищет причин и объяснений катастрофы, а пытается определить, сколько ещё будет продолжаться это безумие и каким может быть исход? Ответ, для современного уха, звучит страшно: «без пересадки - в Царствие Небесное. Штычком» [Замятин 1990:156]. Ирония? Несомненно, но за ней - правда, в её христианском понимании. Но чтобы понять это, надо обратиться к содержанию понятия «Царствие Небесное» и хотя бы кратко проследить исторические изменения отношения к этому понятию в русской духовной культуре. Это необходимо, потому что из постреволюционной повседневности для героев Замятина остаётся только один выход - в Небесное Царство.
Что же такое - Царство Небесное? На Руси это понятие всегда имело христианское содержание. Православие понимает смысл жизни человека как «спасение», которое есть единение с Богом - достижение Царства Небесного. Новый Завет утверждает, что Царство Небесное наступает там, где находится Христос: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4,17); «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Мф. 12,28). Нагорная проповедь, заповеди блаженства и притчи Христовы пронизаны идеей Царства: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5,10); «Ещё подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то» (Мф. 15,44). Таким образом, Царство Небесное - это конечная цель устремлений христианина.
Лучшее философско-богословское определение Царства Небесного, пожалуй, дал русский философ XX века Иван Ильин. Для него Царство Божие - «реальное совершенство <...>, понятое в становлении, нас всех охватывающее и всех преображающее» [Ильин 1996:425].
В определении Ильина объясняется христианское понимание Царства Божьего как подлинной реальности: «над материальным миром, а одновременно и внутри его, существует целостный духовный мир, как бы живая божественная ткань, к которой человек должен прилепиться душой и телом. Эта ткань могущественнее, чем всё материальное, могущественнее законов природы и человеческого тела. В этой ткани ничто истинное не утрачивается, в неё вплетается, в ней возвышается всякое доброе желание, всякая слеза раскаяния, всякий акт любви, пусть он даже чисто природного свойства. Вот эту ткань особого измерения мы бы хотели обозначить, как Царство Божие... Оно есть, в значительной мере, живая основа русского православного воззрения, настоящая народная вера, которая постоянно пробивается во всех областях русской культуры, проявляется при малейшей возможности то безмолвно, то в твёрдой уверенности,то в поэтических строчках,то в героическом подвиге,то в эпитафии на могильной плите...» [Ильин 1996:465].
По Ильину, Царство Небесное - некий «параллельный мир», неощущаемый обычными органами чувств, но реально существующий, некая тонкая материя, особая стихия бытия, «глас хлада тонка» (5 Цар. 19,12), золотой поток вечности, прикосновение к которому исцеляет душу, умиротворяет, начинает преображать человека из земного (плотского, самолюбивого, смертного) в небесного (духовного, жертвенного, вечного). Причём это не просто синоним загробного мира, а реальность, приобщиться к которой человек может ещё на земле - духовно.
Пути к Царству Небесному в разные исторические периоды на Руси были различны. Например, князь Владимир-Святой устремляется к нему верой, принятием крещения, милосердием. Исполнением заповедей и мученичеством достигают Царства святые Борис и Глеб. Подвигами: постом и молитвой открывают врата Царствия преподобные Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский и другие русские святые-монахи. Юродивые приобретают Небесное ценой отречения от всего земного, даже своего разума и доброго имени.
Если же человек не достигает Царствия в полноте, то, хотя бы, встаёт на путь к нему, на путь покаяния, как, например, князь Игорь в «Слове о Полку Игореве», особенно в рассказе о походе Ипатьевской летописи.
В XIV-XV веках русская духовная культура достигла своей высшей точки - гармоничного воплощения святости (Царства Небесного) в земном человеческом бытии. Преподобный Сергий Радонежский явил этот образ в себе самом, а иконопись Андрея Рублёва (также Дионисия, Феофана Грека) отразила его. Не только иконопись, но и архитектура достигла расцвета - были созданы непревзойдённые шедевры храмового зодчества. Это начало реальной воплощённое™ христианского идеала Преображения, которого Русь достигла bXIV-XVI веках. Для сторонников идеологии «Москва - Третий Рим» это явилось подтверждением истины того, что Москва действительно стала православным государством. И в середине XVI века русское общество (в лице Царя и Церкви), по достоинству оценив эти духовные достижения, решило зафиксировать их формы на все времена, буквально построить Царство Божие на земле. Но в результате, «в религиозной жизни Руси устанавливается надолго тот тип уставного благочестия, «обрядового исповедничества», который поражал всех иностранцев и казался тяжким даже православным грекам, при всем их восхищении» [Федотов 1990:197].
Причина духовного упадка была в том, что верхушка общества в XVI веке отказалась от духовного опыта нестяжателей - заволжских старцев, многие из которых были учениками преподобного Сергия и продолжателями традиций исихазма. Данное направление монашества (соль христианства) было подавлено и надолго отстранено от влияния на Церковь и жизнь государства, что стало духовной трагедией Древней Руси.
Когда в XVIII веке формируется светское искусство, и его непосредственная связь с христианством рвётся, идея Небесного Царства исчезает из литературы. И появляется стремление изукрасить землю, превратить землю в Рай уже в этой жизни (даже в архитектуре XVII века эта идея выражалась достаточно ярко). По замыслу Петра I Петербург должен был стать Парадизом - Раем, но уже не Небесным, а земным.
О поисках Царства Небесного на земле говорит и появление в XVIII веке в русской литературе жанра утопии, который в Европе возник ещё в эпоху Возрождения. В Средние века на Руси представление о Рае - Золотом веке - было классическим, то есть христианским: Рай потерян Адамом. Золотой век представлялся людям, находившимся в далёком прошлом. И его возвращение понималось христианами только в эсхатологическом плане - после Второго Пришествия. Но в Средние века он не мыслился людьми в настоящем или в будущем (в пределах исторической жизни человечества). В утопии же некая модель Золотого века (идеально устроенного человеческого общества) уже представляется существующей в настоящем или в историческом (достижимом) будущем. Соответственно, жанр антиутопии направлен против этой идеи и утверждает обратное: невозможность построения Рая на земле.
К середине XIX-го века утопическая идея соединяется в общественной мысли и художественной литературе с идеей социального преобразования общества. Это является общепризнанной истиной.
Из представления о революции как о социальной буре, способной очистить человечество, проистекает символистская концепция революции рубежа XIX-XX веков: старый мир прогнил, революция есть движение стихийных сил, которые обновят мир.
Осуществившаяся революция вначале многими деятелями искусства была воспринята восторженно, в ней поэты и писатели увидели возможность осуществления утопических устремлений. Поэтому в первые месяцы после февраля 1917 года газеты и журналы пестрели утопическими произведениями. Но уже в начале 1920-х годов наступило разочарование. Е. Замятин (роман «Мы» и рассказы о революционном Петрограде), И. Шмелев («Убийство», «Солнце мёртвых»), М. Булгаков («Роковые яйца», «Собачье сердце») и многие другие создают произведения, проникнутые уже не утопическими, а, наоборот, антиутопическими мотивами.
Ожидаемое символистами и всем обществом преображение мира не наступило после революции, мир в очередной раз не стал Раем. Скорее, наоборот, как показал Е. Замятин, мир стал подобием ада - «разбушевавшимся каменным океаном», готовым «хлынуть внутрь» «шестиэтажных каменных кораблей» [Замятин 1990:157] и погубить всех пассажиров.
Парадиз-Петербург «горел и бредил» и стал «люто замороженным» городом, «бредовым, туманным миром», порождающим чудовищ - драконо-людей. И этот новый тип человека - драконо-человек - стал ни кем иным, как «проводником в Царствие Небесное» [Замятин 1990: 157]. Именно такую авторскую характеристику (конечно, ироничную!) он получает в рассказе Е. Замятина «Дракон». И свою миссию в мире сам человек-дракон понимает именно так: «На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, нёсся в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху - пустые. И дыра в тумане: рот.
Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:
-...Веду его: морда интеллигентная - просто глядеть противно. И ещё разговаривает, стервь, а? Разговаривает!
- Ну и что же - довёл?
-Довёл: без пересадки - в Царствие Небесное. Штычком» [Замятин 1990:156].
Несомненно, нельзя не учитывать специфической замятинской иронии при характеристике Дракона «проводником в Царствие...», но, как было отмечено в начале статьи, за этим скоморошьим сарказмом - жизненная правда. Дополнительный оттенок смысла сообщает повседневный контекст употребления «человеком-драконом» понятия Царствие Небесное, которое, по идее, не является повседневным, а, наоборот, исключительным явлением. Но употребление его в таком контексте сгущает драматизм повествования, показывает, что повседневным становится то, что не является таковым по природе, в частности, смерть.
Таким образом, упоминание Царствия Небесного в рассказе Е. Замятина «Дракон» не случайно. Можно сказать, что оно является пророчеством писателя. Ведь количество Новомучеников в XX веке превысило число всех русских святых предыдущих времён. Именно по этому пути прошли все новые русские мученики: от высокопоставленных митрополитов Киевского Владимира и Петроградского Вениамина и самого Императора до простых и порою безвестных монахов и мирян.
В небольшом цикле рассказов о послеоктябрьском Петрограде, используя своеобразную иронию («слезы сквозь смех»), Замятин показал, во-первых, что послереволюционный «бредовый мир» не является «человеческим миром». И, во-вторых, что в XX веке для русского человека, обманувшегося утопической мечтой - революцией, остался один путь - в Царствие Небесное, осуществляемый или как мученичество, или как исповедничество, или как юродство. И этот путь становится уже не исключительным героическим подвижничеством, а повседневной действительностью, ежедневным крестным путём.
Практически та же мысль утверждается Замятиным и в написанном в эти же годы рассказе «Тулумбас», имеющем подзаголовок: «послание смиренного Замутия, епископа Обезьянского». Адресовано это послание было членам шуточного общества - «Обезьяньей великой и вольной палаты», созданной в первые годы революции А. Ремизовым. Тулумбас - название турецкого барабана, с которым часто выступали скоморохи. А скоморохи и шуты, как известно, даже во времена самой страшной реакции на свободомыслие, одни имели право говорить правду - в форме шутки. Именно таково послание епископа Замутия, в котором автор повествует о жизни земли Алатырской, превратившейся в некое подобие монастыря. Без труда за монастырскими порядками Алатыря угадываются реалии смутного, скудного и голодного времени революции: «Нет уже велелепия, и кимвалов, и тщеты мирской, но во всём скудота изящная и убожество, какое инокам надлежит. Памятуя, что украшение телесное есть веселие князю тьмы, жители здесь ходят во вретищах, рубищах, власяницах. И не умащают себя благовонными маслами, подобно язычникам, и не украшают золотом и камением драгоценным, но напротив того, презирая плоть, бегают даже водного омовения, ибо чистота душевная - вяще телесной и нежность плоти от бани - пагуба есть. Мудростью трапезных старцев жители-иноки блюдут здесь непрестанный и строгий пост: не только мяса не приемлют, но и рыбы, елей же - однажды в год. Вина же и ликёра, разжигающих блудную похоть, рождающих смех и веселие, и скакание бесовское,- не ведают вовсе...». Это описание, как нельзя лучше дополняет характеристику быта героев других пертроград-ских рассказов, особенно Мартина Мартиныча и Маши из «Пещеры».
И о самом главном - о пути в Царство Небесное - говорит скоморох Замутий: «И более того скажу вам, возлюбленные братья: умилённые слезы я пролил здесь, ибо нет под солнцем земли столь ревнующей о спасении душ и о погублении здешней,тленной жизни - ради грядущей, нетленной. Чаемое явилось во плоти: вся земля Алатырская объявлена единой ставропигиальной обителью, и все жители от мала до велика приняли постриг, а иные и большую печать, и жизнь их - подлинным стала житием» [Замятин 1990:165].
Таким образом, постреволюционная повседневность представлена в трёх проанализированных рассказах Замятина как «путь в Царствие Небесное». Е. Замятин, несомненно, осознал, что в наступившие времена говорить правду без сопроводительного звука «тулумбаса» не только затруднительно, но и просто опасно. Читателю же необходимо научиться воспринимать истину сквозь авторскую скоморошью маску, сквозь двойное, а иногда и тройное дно иронии, а также научиться распознавать исключительное в повседневном.
Список литературы Постреволюционная повседневность и царство небесное в рассказах Е. И. Замятина 1918-1922 годов
- Воронский А. Литературные силуэты. III. Евгений Замятин.//Красная новь. 1922. № 6 (10). С. 318-322.
- Замятин Е. И. Избранные произведения/Е.И.Замятин. М.: Сов. Россия, 1990.544 с.
- Ильин И.А.Сущность и своеобразие русской культуры:три размышления./Ильин И.А.Собрание сочинений в 10 т.Т. 6, кн. 2. М.: Русская книга, 1996.672 с.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси./Предисл. Д. С. Лихачева и А. В. Меня. Коммент. С. С. Бычкова.-М.: Моск. рабочий, 1990.269 с.