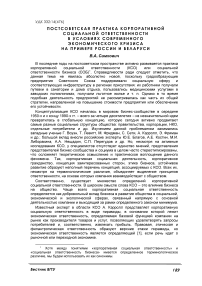Постсоветская практика корпоративной социальной ответственности в условиях современного экономического кризиса на примере России и Беларуси
Автор: Симхович Валентина Александровна
Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 2 (21), 2011 года.
Бесплатный доступ
В последние годы в России и Беларуси активно развивается практика корпоративной социальной ответственности. Последний экономический кризис продиагностировал действительное отношение компаний к этому сегменту. Для российской практики КСО характерно резкое снижение расходов на персонал, социальную деятельность и нефинансовую отчетность компаний, массовые увольнения работников, замораживание социальных инвестиций на федеральном уровне, но сохранение региональных инициатив, которые приносят компаниям реальную пользу и репутационную выгоду. Более устойчивыми к изменениям рыночной ситуации оказались компании, которые интегрировали принципы КСО в корпоративную стратегию. Для белорусской практики КСО характерно снижение расходов компаний на социальную деятельность, но отсутствие массовых увольнений работников, расширение благотворительной помощи, сохранение прежних масштабов социальных инвестиций. В целом, кризис высветив страновые различия, обострил проблему оптимизации принимаемых решений, направленных на устойчивое развитие как бизнес-организации, так и общества в целом.
Корпоративная социальная ответственность, экономические кризисы, финансово-экономические кризисы, бизнес, социальная ответственность бизнеса, корпоративная ответственность, практика социальной ответственности, постсоветская практика, анализ практик
Короткий адрес: https://sciup.org/142184726
IDR: 142184726
Текст научной статьи Постсоветская практика корпоративной социальной ответственности в условиях современного экономического кризиса на примере России и Беларуси
В последние годы на постсоветском пространстве активно развивается практика корпоративной социальной ответственности (КСО) или социальной ответственности бизнеса (СОБ) 1 . Справедливости ради следует отметить, что данная тема не явилась абсолютно новой, поскольку градообразующие предприятия Советского Союза поддерживали социальную сферу и соответствующую инфраструктуру в регионах присутствия: их работники получали путевки в санатории и дома отдыха, пользовались медицинскими услугами в заводских поликлиниках, получали льготное жилье и т. п. Однако в то время подобная деятельность предприятий не рассматривалась как часть их общей стратегии, направленной на повышение стоимости предприятия или обеспечение его устойчивости.
Концептуализация КСО началась в мировом бизнес-сообществе в середине 1950-х и к концу 1990-х гг. – всего за четыре десятилетия – из незначительной идеи превратилась в глобальную концепцию, которую сегодня активно продвигают самые разные социальные структуры общества: правительства, корпорации, НКО, отдельные потребители и др. Изучением данной проблематики занимались западные ученые Г. Воуэн, Т. Левитт, М. Фридман, С. Сети, А. Кэрролл, Э. Фриман и др.; большой вклад внесли российские эксперты Ю.Е. Благов, А.Е. Костин, М.И. Либоракина, А.А. Нещадин, С.П. Перегудов и др. Но, несмотря на активные исследования КСО, у специалистов отсутствует единство мнений, представления представителей бизнес-сообщества и социума в целом часто стереотипизированы, что осложняет теоретическое осмысление и практическое воплощение данного феномена. Так, корпоративная социальная деятельность, корпоративное гражданство, концепция заинтересованных сторон, этика бизнеса, устойчивое развитие образуют неполный перечень концепций, ассоциируемых с КСО. Всех их, несмотря на терминологические различия, объединяет выделение принципов ответственности, на основе которых компания взаимодействует с обществом.
Соответственно, существует множество определений корпоративной социальной ответственности. В широком смысле слова КСО – это влияние бизнеса на общество. Чаще всего корпоративная социальная ответственность определяется как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума.
Известный эксперт в области КСО А. Кэрролл представляет корпоративную социальную ответственность в виде пирамиды, в основании которой лежит экономическая ответственность, определяемая базовой функцией компании на рынке как производителя товаров и услуг, позволяющих удовлетворять запросы потребителей и, соответственно, извлекать прибыль. Правовая, этическая и филантропическая ответственность образуют верхние этажи пирамиды, но экономическая ответственность является определяющей [1], если речь идет о рыночной или переходной экономике.
Объектами социальной ответственности являются все целевые группы, «оказывающие существенное влияние на принимаемые фирмой решения и/или находящиеся под воздействием этих решений» [2, с. 25], получившие название заинтересованных сторон, или стейкхолдеров. К ним относятся собственники и персонал компаний, потребители, партнеры, кредиторы, власти, местные сообщества и т. д.
При реализации практики социальной ответственности важно соблюсти баланс противоречивых интересов всех групп стейкхолдеров, поскольку каждая группа рассматривает КСО с точки зрения, наиболее удачной для решения собственных задач. Для PR-менеджеров – это защита имиджа, персонала – справедливое вознаграждение за труд, экологов – природоохранные мероприятия, которые снижают воздействие на окружающую среду, властных структур – возможность разделить с бизнесом бремя моральной и материальной ответственности за социальное развитие, социально незащищенных слоев населения – благотворительность и т. д.
Соответственно, социальная ответственность бизнеса рассматривается в узком и широком смысле. В узком смысле она включает в себя обязанность субъекта хозяйствования эффективно осуществлять функцию создания добавленной стоимости, в полном объеме выполняя социальные обязательства, установленные законом, этическими нормами и правилами, принятыми в обществе. Иными словами, она предполагает своевременную выплату работникам зарплаты, уплату налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды, техники безопасности и здоровья работников, а также этичное поведение в рамках существующего законодательства.
В широком смысле КСО – это стратегический подход к ведению бизнеса, когда проблемы общественной жизни и окружающей среды превращаются в возможности для бизнеса. А поскольку развитие бизнеса должно быть увязано с решением социально значимых проблем, то оптимальным вариантом решения этой дилеммы является интеграция программ КСО в корпоративную стратегию, что позволяет рассматривать их как необходимое условие устойчивого развития организации, а не как статью вынужденных расходов. Как показывает мировой опыт, если компания рассматривает свои социальные и экологические программы как инвестиции, увязывая их с цепочкой создания стоимости или развитием своего отраслевого кластера, то такие программы имеют больший позитивный эффект как для общества, и так для бизнеса. Например, внедрение ресурсосберегающих технологий дает больший эффект, чем участие персонала в озеленении территории, а адресная помощь, оказываемая предприятием профильному учебному заведению, является более эффективной, чем его поддержка образования вообще. В то же время корпоративная стратегия не отрицает благотворительную деятельность бизнеса как адресную помощь неимущим, больным, сиротам и др.
Признавая высокую социальную значимость КСО, нельзя не отметить, что эта идея не рассчитана на кризис. Она родилась в благополучных странах в благополучные времена. С одной стороны, защищенные законом работники могли требовать от компаний более пристального внимания к своим материальным и духовным потребностям, а обеспеченные покупатели – выбирать экологически чистые товары, придавая большое значение имиджу компании производителя. С другой стороны, компании, процветающие в условиях всеобщего экономического роста, могли тратить больше денег на улучшение условий труда работников, внедрение ресурсо- и природосберегающих технологий, благотворительность и поддержку НКО.
Дискуссия о корпоративной социальной ответственности особенно обостряется в условиях кризиса, который становится не только проверкой финансовой устойчивости компаний, но и проверкой оптимальности программ КСО. Компаниям предъявляются жесткие требования, касающиеся изменения, прежде всего, социально-ориентированных проектов. А, поскольку в период рецессии социальная активность бизнеса традиционно снижается, уменьшение социальных расходов является естественной реакцией компании на кризисные явления в экономике.
Не стал исключением и последний финансово-экономический кризис, который позволил диагностировать действительное отношение компаний к этому сегменту на постсоветском пространстве, усилив различия российской и белорусской практик КСО.
Как отмечают эксперты, накануне кризиса российские компании стали уделять гораздо больше внимания совершенствованию социальной политики на производстве, на первый план постепенно начали выходить вопросы охраны окружающей среды, хотя исторически первая и самая простая форма кСо -благотворительность, филантропия - всегда была актуальна для реалий Российской Федерации. В то же время российский бизнес был готов и к более сложным формам социальной ответственности [3], так как он проявлял стремление к достижению баланса между интересами самой компании, ее акционеров, потребителей ее продукции, а также государства и некоммерческих организаций, работающих в данной сфере.
Финансово-экономический кризис оказал на российскую практику КСО неоднозначное влияние. С одной стороны, расходы российских компаний на социальную деятельность и нефинансовую отчетность снизились до 70 %, инвестиции в социальную сферу также были сокращены или заморожены. И хотя Россию традиционно отличало большое количество благотворителей, в первых строках всех секвестров оказались расходы на благотворительность. Так, согласно результатам исследования «Благотворительность в условиях кризиса», 65 % от 440 опрошенных некоммерческих организаций заявили о том, что их финансирование со стороны было сокращено [4]. Одновременно нельзя не отметить, что реальностью стала и социально безответственная реструктуризация деятельности компаний, приведшая к массовым увольнениям. Значительные масштабы уменьшения затрат на персонал, региональные программы и другие элементы КСО, которые, по ряду экспертных оценок, составляют до 35 %, свидетельствуют о том, что менеджмент большинства российских компаний избрал путь адаптации к кризису главным образом за счет работников, при этом денежное содержание руководящей верхушки в период кризиса снизилось очень незначительно [5]. Это во многом объясняется особенностями отношения российских деловых кругов к корпоративной социальной ответственности как инструменту PR-активности, а не стратегии ведения бизнеса, который предполагает достижение баланса интересов всех стейкхолдеров и требует не только принятия, публичного декларирования, но и безусловного соблюдения всех взятых на себя обязательств.
С другой стороны, формированное у российских компаний понимание значимости КСО позволило сохранить финансирование социальных программ, которые приносят им реальную пользу и репутационную выгоду. По свидетельству исполнительного директора Некоммерческого партнерства «КСО - Русский центр» А.Е. Костина, большое число социальных и благотворительных проектов сократилось на федеральном уровне, но закрытие или сокращение не коснулось региональных инициатив [6]. В то же время те компании, которые интегрировали принципы КСО в корпоративную стратегию, оказались более устойчивы к резким изменениям рыночной ситуации [7]. Выстроенные ими системы взаимовыгодного взаимодействия с заинтересованными сторонами, в частности, частногосударственные партнерства, сыграли роль своеобразных амортизаторов.
Отечественная практика КСО также оказалась под неоднозначным влиянием кризиса, что обусловлено ее спецификой. Как показал опрос представителей деловых кругов, проведенный в докризисном для Беларуси 2008 году, в белорусском бизнес-сообществе не был сформирован системный подход к пониманию КСО в той актуальной интерпретации, которая учитывает интересы всех стейкхолдеров. Признавая в целом необходимость социальной ответственности, субъекты хозяйствования трактовали КСО не столько как добровольный вклад предприятия или компании в улучшение общественного благосостояния и развитие общества, сколько как инструмент повышения своей конкурентоспособности при взаимодействии с ключевой группой стейкхолдерами, а именно – с потребителями. Более того, из-за недопонимания всех масштабов влияния КСО многие руководители воспринимали социальную ответственность бизнеса перед обществом через призму благотворительности, т. е. как издержки. Была выявлена закономерность, которая не делала чести отечественному бизнесу: чем крупнее предприятие, тем сильнее было его нежелание помогать социально незащищенным слоям населения, регионам присутствия или местным сообществам, хотя таких возможностей у крупных предприятий гораздо больше, чем у среднего и малого бизнеса [8, с. 54]. Поскольку КСО в краткосрочном периоде – это всегда издержки, их боязнь даже в условиях экономического роста являлась главным препятствием для продвижения принципов КСО в Беларуси (равно как и на постсоветском пространстве в целом), в отличие от западных стран, где основной фактор развития КСО – это давление общества на бизнес.
Хотя основная цель бизнеса – это получение прибыли, носителем прибыли являются не столько материальные вложения в компанию, сколько человеческий потенциал. Формирование ответственного человеческого капитала, который ориентирован и поддерживает бизнес, становится дополнительным источником для развития компании. Известно, что программы социальной ответственности являются частью конкуренции за привлечение наиболее высококвалифицированных сотрудников и их мотивации, что помогает успешной работе с клиентами и приводит к росту продаж. Именно поэтому в условиях кризиса предприятия должны усиливать поддержку, прежде всего, своих работников.
Для социально ответственных компаний сохранение численности работников является одним из важнейших вопросов, так как сокращение персонала и лишение его социальных гарантий в целях экономии едва ли станет решением возникших у компании проблем. Сохраненный персонал впоследствии отплатит лояльностью по отношению к компании, что приведет к росту объема продаж, сокращению издержек, и, в конечном итоге, повышению конкурентоспособности и росту рыночной капитализации. В качестве примера можно привести известную японскую корпорацию «Мацусита электрик», которая сегодня носит имя своего самого раскрученного бренда «Панасоник». Великая депрессия 1930-х гг. нанесла значительный ущерб корпорации. Когда ее склады оказались забитыми непроданными товарами, встал вопрос об увольнении части персонала. Глава корпорации К. Мацусита предложил сократить производство, но сохранить всех работников и даже платить им зарплату при условии, что они отправятся распродавать товары. Предложение было поддержано работниками, которые так быстро распродали запасы, что уже через два месяца компания возобновила производство в полном объеме.
Пример весьма показателен для выживания компаний и организаций в кризисных условиях, хотя, возможно, и не столь широко известен даже специалистам по менеджменту. Кроме того, не всегда сотрудники способны распродавать выпускаемую продукцию, так как это могут быть трактора, большегрузные самосвалы, оборудование и т. п. Важно то, что белорусский бизнес осознает необходимость сохранения высококвалифицированного персонала и не прибегает к социально безответственной реструктуризации своей деятельности, в частности, массовым увольнениям работников, что отличает белорусскую практику КСО от российской.
Ее другой отличительной особенностью является не сокращение, а расширение благотворительной помощи тем, кто особенно нуждается в кризисных условиях. Два года назад по поводу нежелания крупных компаний тратить часть доходов на тех, кто не является стейкхолдерами, мы высказывали предположение, что, если менеджмент компаний будет воспринимать отношение к такого рода расходам не как часть корпоративной стратегии, а как дополнительное обременение, Беларусь может лишиться корпоративной филантропии. Прошло совсем немного времени, и мнение деловых кругов стало меняться в силу того, что социальноориентированный бизнес получил поддержку государства. По мнению заместителя министра экономики Республики Беларусь А.Н. Тура, в экономических вопросах никогда не будет стопроцентного успеха при отсутствии социального равновесия и благополучия. Подобное равновесие выражается в том, что люди уверены, что бизнес всегда сможет прийти на помощь при возникновении социальной нужды, что рождает у них доверие и, следовательно, поддержку бизнеса [9].
Сегодня же, по образному выражению руководителя «Русфонда» Л. Амбиндера, «Беларусь беременна благотворительностью» [10]. В качестве примера он приводит белорусский фонд «Шанс», который только за 2,5 года собрал около 750 000 долларов за счет пожертвований субъектов хозяйствования и отдельных граждан, подчеркивая, что деньги – это показатель доверия общества.
Не менее важным остается вопрос о социальных инвестициях. Мировая практика подтверждает, что вложения в социальную идею способствуют диверсификации бизнеса, обнаруживая экономическую выгоду. Участие бизнеса в социальной жизни является дополнительным стимулом для общества обратить внимание на продукцию компании и результаты ее деятельности. Чем больше та или иная компания занята в социальных срезах, тем более привлекательна она для инвесторов, так как только стабильный и устойчивый бизнес способен на системные социальные затраты. Устойчивое развитие бизнеса свидетельствует о правильности стратегии компании, что повышает ее инвестиционную привлекательность. Социальная ответственность – это улица не с односторонним, предполагающим издержки, движением, а улица с двусторонним движением, так как результативность приходит только со временем, возвращая бизнесу его затраты через расширение возможностей. Однако в связи с тем, что у белорусских деловых кругов отсутствует системный, стратегический подход к КСО, лишь ограниченный круг компаний занимается финансированием долгосрочных программ, направленных на социальное развитие региона присутствия и повышение уровня жизни различных слоев общества. Например, ЗАО «МАП ЗАО» застраивает территорию поселка Колодищи с целью формирования его инфраструктуры, ЗАО «Эрмита» участвует в долгосрочной программе по использованию вторичного сырья для производства бумажной продукции, а ОАО «Савушкин продукт» реализует проект «Школьное молоко», направленный на укрепление здоровья минских школьников.
Эксперты прогнозируют, что если компании пожертвуют инновациями и инвестициями, если они не смогут выйти из кризиса конкурентоспособными, то вынуждены будут прекратить свое существование. По этой причине компаниям не следует полностью отказываться от программ, которые стали их визитной карточкой. Они могут уменьшить финансирование, добавить в программу нефинансовые ресурсы или разделить платежи на несколько траншей, но отказ от социальных программ может послужить плохим знаком для стейкхолдеров.
Таким образом, анализ российской и белорусской практик социальной ответственности бизнеса свидетельствует о том, что экономический кризис, продиагностировав действительное отношение компаний к этому сегменту и высветив страновые различия, в целом не привнес ничего нового в практику КСО, так как ожидания заинтересованных сторон разнонаправлены, а ресурсы компании ограничены. Он лишь обострил проблему выбора, а точнее, проблему оптимизации принимаемых решений, направленных на устойчивое развитие как бизнес-организации, так и общества в целом.
Список литературы Постсоветская практика корпоративной социальной ответственности в условиях современного экономического кризиса на примере России и Беларуси
- Carroll, A. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders/A. Carroll//Business Horizons. -1991. -34(4). -P. 39-48.
- Freeman, R. E. Strategic management: A Stakeholder Approach/R. E. Freeman/-Boston: Pitman Publishing, 1984. -276 p.
- Панащук, С. Кризис сделал похожими цели бизнеса и государства [Электронный ресурс]/С. Панащук. -Режим доступа: http://www.izvestia.com.ua.
- Благотворительность в условиях кризиса [Электронный ресурс]/CAF Россия, исследовательская группа «Циркон», Форум Доноров и PricewaterhouseCoopers. -Режим доступа: http://www.pwc.com/RU/ru/corporate-social-responsibility/charity-crisis-survey.
- Бахтурина, Ю. И. Социальное управление российских корпораций в условиях кризиса/Ю. И. Бахтурина, Н. Е. Сеченых//Россия на пути выхода из экономического кризиса: сб. науч. ст., Вып. 8. -Санкт-Петербург.: ИБП, 2010. -С. 55-58.
- Доклад о тенденциях в сфере КСО в России в 2009 г. [Электронный ресурс]/Национальный форум корпоративной социальной ответственности. -Режим доступа: http://www.csrforum.ru/.aspx?rub=120&lng=ru.
- Симхович, В. А. Ценности социальной ответственности бизнеса в деловом сообществе Беларуси//Социология. -2008. -№ 4. -С. 88-98.
- Тур, А. Н. Ответственность расширяет возможности [Электронный ресурс]/А. Н. Тур. Интервью Фонду «Идея» 23.08.2011. -Режим доступа: http://isefi.by/.
- Амбиндер, Л. Беларусь беременна благотворительностью [Электронный ресурс]/Л. Амбиндер. Интервью Фонду «Идея» 06.08.2011. -Режим доступа: http://isefi.by/