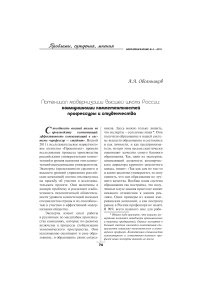Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества
Автор: Овсянников Анатолий Александрович
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Проблемы, суждения, мнения
Статья в выпуске: 4 (54), 2011 года.
Бесплатный доступ
Весной 2011 г. исследовательское маркетинговое агентство «Проконтакт» провело исследование процесса производства российскими университетами компетенций и уровня освоения этих компетенций выпускниками этих университетов. Эксперты (представители среднего и высшего уровней управления российских компаний) охотно откликнулись на просьбу об участии в исследовательском проекте. Они включены в данную проблему и разделяют озабоченность педагогической общественности уровнем компетенций молодых специалистов страны и их способностью к участию в эффективной модернизации общества. Эксперты имеют опыт работы в различных по масштабам производства компаниях. Эти компании по-разному включены в процессы глобализации экономического пространства. Они неодинаково оценивают и свое образование, и образование своих сотрудников. Здесь можно только заявить, что наши эксперты — успешные люди. Они получили образование в нашей системе высшего образования и «состоялись» и как личности, и как предприниматели. Все они весьма скептически оценивают качество своего базового образования.
Потенциал модернизации, коммуникация компетентности, производство компетенций, эффективность коммуникаций, клиентоориентированность, креативность, поле зунов, пассионарный рывок
Короткий адрес: https://sciup.org/14347372
IDR: 14347372
Текст научной статьи Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества
Эксперты имеют опыт работы в различных по масштабам производства компаниях, которые по-разному включены в процессы глобализации экономического пространства. Они неодинаково оценивают и свое образование, и образование своих сотруд- ников. Здесь можно только заявить, что эксперты — успешные люди *. Они получили образование в нашей системе высшего образования и состоялись и как личности, и как предприниматели, но при этом весьма скептически оценивают качество своего базового образования. Так, один из экспертов, занимающий должность коммерческого директора крупного цементного завода, пишет: «Так как сам не так-то и давно закончил университет, то могу оценить, что мое образование не лучшего качества. Вообще наша система образования так построена, что полученные в вузе знания просто не имеют никакого отношения к нашим реалиям. Одни примеры из жизни американских компаний, а как построен рынок в России профессора не знают. Я 90% всего нужного мне для рабо ты познал на практике, из общения с коллегами, правда, и из обучения в Институте бизнеса и делового администрирования АНХ. С языком и вовсе беда. Ни в школе, ни университете я английский так и не смог выучить. У меня вопрос стоял ребром: или уходи с должности, или выучи язык. Я сам вот уже два года занимаюсь с преподавателем и уже вполне комфортно чувствую себя на переговорах с зарубежными партнерами».
За этим частным откровенным признанием видно и неудовлетворение университетским образованием, полученным экспертом, и мощная мотивация на достижение успеха, и огромный труд, связанный с самообразованием и самостоятельным наращиванием своей компетенции. Заметим, что эти компетенции должны были быть сформированы еще в системе общего образования (иностранный язык и межнациональные коммуникации), и в системе высшего образования (модели и практики деятельности). Как-то получается, что карьера выстраивается не благодаря полученному образованию, а вопреки ему. Она связана с дополнительными затратами по наращиванию как элементарных компетенций, так и профессиональных компетенций для работы на современных рынках постиндустриальных экономик.
Мы считаем, что мнения экспертов не случайны и отражают позицию экспертного сообщества о состоянии Российской высшей школы с позиций потребителей ее продукции — специалистов, получивших образование в российских университетах. Эта позиция имеет два ракурса. Первый и очевидный ракурс связан с оценкой компетенций, приобретенных специалистами в университетах и академиях страны. Второй же ракурс латентен и редко высвечивается в исследованиях рынка труда. Он связан со способностью преподавательского корпуса российской высшей школы к производству специалистов, обладающих самыми современными компетенциями. Для нас эти ракурсы означают стремление оценить эффективность коммуникаций между профессорско-преподавательским составом вузов страны и студентами. Это не только профессиональные коммуникации, но социокультурные, мировоззренческие, межпоколенческие коммуникации между уже прилично пожилой профессурой (средний возраст российского профессора уже превышает 60 лет) [1] и просто молодым студенчеством страны.
Е. Водопьянова, профессор Европейского университета из Санкт-Петербурга, пишет: «Если 15 лет назад самая многочисленная группа российских исследователей имела возраст 30–39 лет, то в 1994 г. – уже 40–49 лет. К концу 1990-х годов самой многочисленной стала возрастная группа от 50 до 59 лет, а молодежь до 30 лет составляла лишь 7,7% исследователей. Примерно каждый 6-й ученый в России старше 60 лет (в том числе 25% кандидатов и 53% докторов наук). Каждый 2-й доктор наук в России уже сегодня имеет пенсионный возраст. И чтобы увидеть эти демографические реалии, достаточно окинуть беглым взглядом не только академические, но и вузовские коридоры. В большинстве из них средний возраст ведущих исследователей и лекторов-профессоров плавно приближается к пенсионному, а чаще и давно его преодолел. И если в академических структурах проблему можно завуалировать томами научных трудов, возраст авторов которых не всегда известен, то возраст лектора за кафедрой сегодня говорит сам за себя. И более того, провоцирует вопрос: «А кто же выйдет к студентам послезавтра?» К такого рода вопросам подводит весьма простая арифметика. Сегодня в науке академической и вузовской возрастная группа 35–45-летних чрезвычайно мала, а те ее представители, кто эффективно работал над докторскими диссертациями, их уже защитили. Однако в силу малочисленности ученых среднего возраста, эти защиты практически не повлияли на изменение среднего возраста российских докторов наук в сторону его уменьшения.
В сложившейся ситуации в ближайшие 15–20 лет возраст среднестатистического доктора наук будет только расти и, вероятно, что уже через 10 лет плавно приблизится к 70-летнему рубежу. Становящиеся же сегодня кандидатами наук аспиранты, во-первых, весьма немногочисленны, а, во-вторых, отнюдь не все из этой группы останутся в науке вообще и отечественной науке в частности. В-третьих, очень немногие из этих оставшихся станут в ближайшие 15–20 лет докторами наук, учитывая еще и то обстоятельство, что ведущие научные школы в этот период также будут распадаться. В результате через 15 лет не только будет катастрофическими темпами расти средний возраст российских докторов наук, но и уменьшится их количество. Для качества национального научного потенциала это чрезвычайно прискорбно, поскольку докторская степень в ее отечественном понимании, либо в западном профессорском эквиваленте, характеризует самостоятельного сложившегося ученого. Ведь, как говорят сами научные работники, настоящий ученый начинается только после защиты докторской диссертации» [2].
В экономиках постиндустриального типа позиция потребителя является главной и решающей. В этих экономиках клиентоориентированность является не формальным атрибутом, а смыслом конкурентоспособной деятельности. Как когда-то заметил Теодор Левитт: «Товар — это не то, что производят, а то, что покупают» [3. C. 15]. Оценки участников процесса производства компетенций, конечно, важны, но решающее слово принадлежит потребителям. В университетах — это студенты. На рынке труда — это работодатель. С одной оговоркой.
Потребитель способен оценить компетенции исходя из сложившихся конъюнктурных особенностей рынка, но никак не перспектив его развития. Перспективы определяются стратегиями социально-экономического развития страны и обеспечением специалистами, способными эти стратегии реализовать. Университет — это образование для более интеллектуально емкого завтра, но не для конъюнктурного сегодня. Оценки экспертов говорят как раз об этом противоречии. Важно и другое: компетентность является стратегическим ресурсом, на десятки лет предопределяющим социальную и экономическую жизнь страны.
В табл. 1 приведены результаты оценки экспертами эффективности производства компетенций, а также уровня обладания этими компетенциями молодыми специалистами, работающими в компаниях экспертов.
Оценки экспертов способностей системы высшего образования формировать современные компетенции, востребуемые политическим желанием модернизации российского обще-
Таблица 1
Оценки эффективности производства компетенций и уровня обладания компетенциями молодыми специалистами компаний
|
Компетенции |
Средняя оценка компетенций (пятибалльная шкала) |
Оценка обладания компетенциями молодыми специалистами компании (пятибалльная шкала) |
|
|
Преподаватели |
Студенты |
||
|
1. Способность к эффективной коммуникации |
4,0 |
2,4 |
3,4 |
|
2. Способность определять цели деятельности |
3,3 |
2,8 |
2,9 |
|
3. Способность добиваться результатов |
4,2 |
2,8 |
3,3 |
|
4. Способность брать на себя ответственность |
|||
|
за выполнение задач |
3,0 |
2,3 |
2,8 |
|
5. Умение превращать информацию в технологию |
2,1 |
2,6 |
2,8 |
|
достижения результата |
|||
|
6. Умение прогнозировать |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
|
7. Способность управлять людьми |
3,4 |
2,0 |
2,5 |
|
8. Решительность |
2,4 |
2,2 |
3,3 |
|
9. Умение применять знания и навыки к анализу |
3,6 |
2,8 |
3,1 |
|
конкретных ситуаций |
|||
|
10. Дальновидность |
4,5 |
2,3 |
2,7 |
|
11. Умение представлять свои работы в письменной |
2,6 |
1,9 |
2,1 |
|
форме на иностранных языках |
|||
|
12. Толерантность |
4,5 |
2,9 |
3,3 |
|
13. Понимание профессиональных перспектив |
4,2 |
2,9 |
3,3 |
|
14. Способность к критике и самокритике |
3,8 |
3,0 |
3,1 |
|
15. Способность учитывать нормы и ценности |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
|
других культур |
|||
|
16. Компьютерная грамотность |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
|
17. Общая эрудированность |
4,6 |
2,8 |
3,5 |
|
18. Умение работать в команде |
4,0 |
2.8 |
3,3 |
|
19. Лидерские качества |
3,1 |
2,7 |
2,5 |
|
20. Мобильность, максимальная адаптивность, умение |
2,2 |
2,8 |
3,5 |
|
ориентироваться в быстро меняющихся условиях |
|||
|
21. Способность системно мыслить |
3,3 |
2,4 |
2,9 |
|
22. Умение и желание постоянно учиться |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
|
23. Установка на карьерный успех |
2,1 |
3,6 |
3,9 |
|
24. Способность к нестандартным решениям |
3,1 |
2,2 |
2,8 |
|
25. Навыки управления проектами |
4,3 |
1,9 |
2,2 |
|
26. Способность общаться со специалистами |
|||
|
из других областей |
4,1 |
2,4 |
3,1 |
|
27. Способность к исследовательской работе |
3,6 |
2,3 |
2,6 |
|
28. Приверженность этическим нормам |
4,2 |
2,8 |
3,6 |
|
29. Способность к самостоятельной работе |
4.4 |
2,8 |
3,3 |
|
30. Креативность |
2,8 |
2,9 |
3,5 |
|
31. Умение систематизировать информацию |
3,2 |
2,7 |
3,3 |
|
32. Умение работать в условиях рисков и неопределенностей 2,2 |
1,9 |
2,7 |
|
|
ИТОГО |
3,40 |
2,62 |
3,07 |
ства для врастания в открытый информационный и глобализирующийся мир, весьма тревожны. Интегрально компетентностный потенциал профессуры страны выглядит почти «хо- рошо» (3,40 балла), но вот студенты не тянут и на «удовлетворительно» (2,62 балла), а молодые специалисты демонстрируют компетенции нормального «троешника» (3,07 балла).
Очевиден провал в коммуникациях в системе «профессор — студент» и рост компетентности за счет поствузовского образования или самообразования у молодых специалистов.
Эксперты оценивают в своем подавляющем большинстве способности российских университетов эффективно формировать базовые компетенции крайне низко. Они ставят российской школе твердые «удовлетворительно» (14 позиций из 32, т.е. 44% списка компетенций) и «неудовлетворительно» (16 позиций из 32, т.е. 50% списка компетенций). Есть откровенные провалы в способности приобрести компетенции в нашей высшей школе: 67% экспертов на «неудовлетворительно» оценили способность вузов России обучить иностранному языку и возможностям к коммуникациям на иностранных языках. Российская профессура, по мнению экспертов, также владеет иностранными языками ниже, чем на «удовлетворительно». В стране поколениями формировалось внекультурное «глухонемое» общество. Профессор Лев Любимов так оценивает это обстоятельство «…есть еще одно масштабное преступление советской системы образования, сегодняшние и завтрашние трагические последствия которого мы никак не можем осознать. Мы вошли в 1991 г. (из СССР в Российскую Федерацию) немыми в мировое сообщество и остаемся немыми до сих пор, потому что советская власть сознательно лишила народ лингвистического образования (чтобы не слушали, не читали, не разговаривали)» [4. С. 203]. Исследования социологов, проведенные Центром Карнеги в 2002 г., показали масштабы этой социальной «глухонемоты»: только 3% взрослого населения России оценили знание иностранного языка как «свободно владею» [5].
Только две компетенции «выбиваются» из этого серого поля неэффективности системы высшего образования страны. Эксперты вполне прилично оценили эффективность российских университетов по обучению студентов IT-технологиям (63% экспертов поставили оценку «хорошо») и так же оценили «умение и желание постоянно учиться» 33% экспертов. На фоне крайне низких оценок эффективности российской высшей школы формировать компетенции современного специалиста именно эти оценки смотрятся спасительными. Если университеты сами не могут научить, то хорошо, что сохраняют (вряд ли здесь уместно слово «развивают») способности студентов к самообучению и к самостоятельному наращиванию компетентности. Собственный опыт наших экспертов только подтверждает этот вывод.
Обращает внимание разрыв, и подчас существенный, в оценках экспертами эффективности высшей школы формировать компетенции современного мира и в оценках компетенций, которыми обладают молодые специалисты, работающие в компаниях наших экспертов. Здесь, пожалуй, возможны следующие объяснения.
-
■ На фоне крайне негативной оценки способностей российской высшей школы формировать у студентов компетенции открытого постиндустриального общества, эксперты оценивают компетенции своих молодых специалистов более высоко (компетентностную эффективность вузов они оценили в 2,62 балла, а уровень компетентности своих молодых специалистов – на 3,07 баллов). Конкурентоспособность и стремление ее наращивать не позволяют опре-
- делить это различие в оценках (почти в пол-балла) по-обывательски просто потому, что «коль наши, то уже лучше». Напротив, конкуренция требует более критического взгляда на свой персонал. Различия в оценках объяснимы тем, что вчерашние студенты вынуждены самостоятельно наращивать свою конкурентоспособность, самостоятельно осваивая новые компетенции или усиливая уже освоенные в университете, но плохо.
-
■ Одним из самых серьезных резервов роста эффективности компетентности является развитие института практик в российской высшей школе. Приглашение в университеты практических деятелей должно стать массовой практикой модернизации учебного процесса. Практические стажировки профессорско-преподавательского состава в компаниях необходимы и с научной, и с практической стороны организации учебного процесса. Особенно важно наращивание престижа профессорского труда. Следует сделать обязательной годичную стажировку в зарубежных вузах для соискателей докторских степеней, для аспирантов такая стажировка должна быть хотя бы полгода. Конечно, необходимо на порядок увеличить и заработную плату профессоров.
-
■ Российская высшая школа уже не в состоянии производить качественные современные компетенции. Молодые талантливые специалисты уехали из страны. Известный политик, директорИнститутасовременногораз-вития (ИНСОР) Игорь Юргенс оценивает масштаб этого интеллектуального исхода в 7 млн специалистов [6]. Российское правительство вынуждено принимать меры по рекрутированию иностранных специалистов высокого уровня в российские вузы. Оно при-
няло постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования». В петровские времена к нам охотно ехали и работали в России иностранные деятели науки, культуры, архитектуры. Достаточно назвать хотя бы имена Бернулли, Брюса, Бухгольца, Эйлера, Рихмана, Штелина и много еще имен выдающихся умов, ставших русскими учеными. Сегодня и за большие деньги не едут…
-
■ Есть еще одно объяснение неэффективности обмена коммуникациями. Сегодня в аудиториях университета учится совсем другой студент, решительно отличающийся от студентов эпохи социального модерна прошлого века. Педагогика этой эпохи становится неэффективной. Нынешних студентов называют новым постмодернистским поколением Next. Нейл Хау и Уильям Страусс объявили современную молодежь, в том числе и студенческую, «людьми нового тысячелетия» [7]. Хау и Страусс обнаруживают у этого поколения студентов следующие качества (мало чем отличающиеся от российских студентов*).
Во-первых, стремление к хорошим оценкам и успеваемости выражено слабо. В действительности нынешнее поколение студентов не только не стремится хорошо учиться, но, напротив, представляется наименее усердным студенческим поколением. Это самые равнодушные к учебе и недисциплинированные студенты, они крайне мало времени проводят за учебниками, испытывают скуку от учения и часто опаздывают на занятия.
Во-вторых, уважение к общественным нормам и институтам ослаблено. В студенческой среде явно проявляет себя постмодернистская амбивалентность, связанная с нравственным релятивизмом. Это проявляет себя в простом правиле: «нравственно все, что удобно или выгодно мне». Нынешняя молодежь не только не отличается гражданской лояльностью и корректностью поведения, но и явно демонстрирует неучтивость по отношению к общественным ценностям и институтам. Для них профессор университета десакрализован непрактичностью и неспособностью «делать деньги».
В-третьих, активное участие во внеаудиторной деятельности и готовность выполнять общественную работу — эти ценности практически исчезли из студенческих аудиторий.
В-четвертых, интерес к любым наукам просто отсутствует. Согласно данным, приводимым А.Астином и другими американскими социологами [8], это поколение проявляет крайнее равнодушие к учебе и не выказывает особого интереса ни к математике, ни к естественным, ни к гуманитарным наукам.
Поколение Next — это прямое порождение изменяющихся социальных условий, в совокупности образующих явление постмодерна. Личное мнение и потребительский интерес теперь гораздо сильнее влияют на формирование ценностной системы и практики повседневных решений, чем ценности традиционные, такие. как религия и наука. Высшее образование в целом основывается на ценностях Нового времени (модерна), которые уходят корнями в эпоху Просвещения и неразрывно связаны с такими понятиями, как оптимизм, познаваемость истины, наука и разум. Постмодерн более склонен к пессимизму, провозглашает, что «истина» для каждого своя, ставит личное мнение выше истины, а личный опыт — выше науки.
Потребительство является фундаментальной ценностью общества потребления как экономического базиса культуры постмодерна [9]. В образовании, как и в любой другой области маркетизированной жизни, все большее значение приобретает модель «производитель — потребитель». Эта роль в вузе принадлежит студенту. Потребительская практика стала и внутривузовской практикой. Студенты настаивают на немедленном удовлетворении своих желаний, ищут наиболее выгодные сделки, склонны торговаться, а в случае неудовольствия могут начать сутяжничать. И хотя многие вузы перешли на модель обслуживания студентов как клиентов, тем не менее остается острой проблема, выражающаяся формулой: «Я заплатил за обучение, а теперь будьте добры предоставить мне знания, или, желательно, сразу диплом». Поколению Next внушают, что обучение должно быть увлекательным, легким и доставлять удовольствие. Теперь молодые люди могут ожидать, что легкими и увлекательными будут любые их занятия. Между тем, подобные представления плохо сочетаются с усердием и кропотливым трудом, необходимыми для получения серьезного высшего образования. Многие, если не большинство преподавателей, воспитанных в культуре естественно-научного модерна, теряются при попытке заинтересовать своим предметом студентов эпохи постмодерна. Профессора жалуются, что их подопечные хотят получать хорошие оценки при минимуме усилий, что студенты и вузовская администрация ждут от них искусственного завышения успеваемости, что оценка «неудовлетворительно» в вузах практически запрещена. Крайне редки сегодня и отчисления нерадивых студентов. В российских вузах это объясняется утверждением: «Студент – наш кормилец!». При снижении бюджетного финансирования такая практика становится условием выживания и вуза, и самой профессуры. Профессор современного вуза все в большей степени обречен исполнять роль гувернера, но никак не роль «интеллигентного мессии».
Высшая школа страны оказалась неспособной производить качественный социальный капитал. Вот вывод, следуемый из оценок экспертов. И чем более сильной будет наша интеграция в мировые культуры, в мировые рынки и коммуникации, тем очевиднее будет наша отсталость и некомпетентность. Спекулятивные измышления о том, что у нас хорошая система образования (или утверждения, что в Советском Союзе была хорошая система образования) не выдерживают никакой критики. Наша высшая школа по-прежнему воспроизводит культуру изоляционистского общества, фундаментально самодостаточного и заявляющего в своей идеологии о своей передовой миссионерской роли в мире. Это культура социальной провинции.
Конечно же, следует признать, что высшая школа в разной степени ответственна за формирование компетенций, обозначенных в нашем списке. Формально университет обеспечивает обучение в треугольном педагогическом поле: «знания – умения – навыки», так называемом поле «зунов». Компетенции, связанные с «ЗУНами», см.: табл. 2.
Данные табл. 2 говорят о том, что по весьма широкому списку компетенций различия между профессурой и студентами экспертами просто не различаются. Такие компетенции в табл. 2 выделены жирным шрифтом. Их оказалось 7 из 20 (35%). Речь идет о таких компетенциях, которые предполагают деятельность в поликультур-ной и информационной среде в условиях рисков и неопределенностей, нацеленную на достижение конкретного результата. Российская профессура к тому же не стремится к постоянному обучению, слабо представляет себе профессиональные перспективы, да и вообще плохо умеет моделировать будущее. Эти компетенции, как никакие другие, ценны в наше время, когда риски и неопределенности стали обыденностью социальной жизни. Студентов России этому просто некому научить.
Оценки экспертов компетентнос-тной эффективности высшей школы в целом (см. табл. 2 и табл. 1) позволяют сделать еще один неприятный вывод. Эти оценки практически одинаковы (см. две итоговые строки табл. 2). Табл. 2 содержит компетенции-ЗУНы. В ней отсутствуют морально-волевые и ценностные компетенции. Получается, что если итоговые оценки компетенций в этих таблицах одинаковы, то это означает, что высшая школа нисколько не наращивает компетентности личностного и гуманитарного характера. Она просто этим не занимается.
Воспитательная роль системы высшей школы экспертами просто не
Таблица 2
Оценки эффективности производства компетенций пространства «знания – умения – навыки»
|
Компетенции |
Средняя оценка компетенций (пятибалльная шкала) |
Оценка обладания компетенциями молодыми специалистами компании (пятибалльная шкала) |
|
|
Преподаватели |
Студенты |
||
|
1. Способность к эффективной коммуникации |
4,0 |
2,4 |
3,4 |
|
2. Способность определять цели деятельности |
3,3 |
2,8 |
2,9 |
|
3. Умение превращать информацию в технологию |
2,1 |
2,6 |
2,8 |
|
достижения результата |
|||
|
4. Умение прогнозировать |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
|
5. Способность управлять людьми |
3,4 |
2,0 |
2,5 |
|
6. Умение применять знания и навыки к анализу |
3,6 |
2,8 |
3,1 |
|
конкретных ситуаций |
|||
|
7. Умение представлять свои работы в письменной |
2,6 |
1,9 |
2,1 |
|
форме на иностранных языках |
|||
|
8. Понимание профессиональных перспектив |
2,6 |
2,9 |
3,3 |
|
9. Способность учитывать нормы и ценности |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
|
других культур |
|||
|
10. Компьютерная грамотность |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
|
11. Умение работать в команде |
4,0 |
2.8 |
3,3 |
|
12. Способность системно мыслить |
3,3 |
2,4 |
2,9 |
|
13. Умение и желание постоянно учиться |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
|
14. Способность к нестандартным решениям |
3,1 |
2,2 |
2,8 |
|
15. Навыки управления проектами |
4,3 |
1,9 |
2,2 |
|
16. Способность общаться со специалистами |
|||
|
из других областей |
4,1 |
2,4 |
3,1 |
|
17. Способность к исследовательской работе |
3,6 |
2,3 |
2,6 |
|
18. Способность к самостоятельной работе |
4,4 |
2,8 |
3,3 |
|
19. Умение систематизировать информацию |
3,2 |
2,7 |
3,3 |
|
20. Умение работать в условиях рисков |
2,2 |
1,9 |
2,7 |
|
и неопределенностей |
|||
|
ИТОГО |
3,32 |
2,53 |
3,00 |
|
ИТОГО (по полному списку компетенций табл. 1) |
3,40 |
2,62 |
3,07 |
обнаруживается. Если, с определенными оговорками, наши университеты и можно назвать высшими учебными профессиональными заведениями, то их гуманитарно-воспитательная роль никак не соответствует высшему уровню. В то же время известно, что при глобализации культур и образования только усиливается роль культурологических знаний. Гуманитарная культура — это основа и для коммуникаций, и для идентификации нас, граждан России, в мире. Общество всегда нуждается в смыслах, связанных с культурами, религиями и идео- логиями как учениями об идеалах социального обустройства. Высшая школа и ее профессура устранилась от осмысления и решения этой миссионерской задачи.
Какие компетентности воспроизводит высшая школа? В табл. 3 приведена иерархическая модель оценок эффективности российской высшей школы по формированию компетенций современного постиндустриального общества. Эти оценки упорядочены по мере убывания оценок эффективности. Одновременно с этим
Таблица 3
Иерархия оценок эффективности формирования компетенций у студентов
|
Компетенции |
Оценка эффективности формирования (пятибалльная шкала) |
Профессиональные компетенции
Компьютерная грамотность3,79
Установка на карьерный успех3,61
Способность к критике и самокритике2,96
Креативность2,92
Толерантность2,88
Понимание профессиональных перспектив2,88
Умение и желание постоянно учиться2,86
Умение применять знания и навыки к анализу конкретных ситуаций2,83
Мобильность, максимальная адаптивность, умение ориентироваться в быстро меняющихся условиях2,83
Ценностно-волевые компетенции
Приверженность этическим нормам2,83
Общая эрудированность2,79
Способность к самостоятельной работе2,79
Способность учитывать нормы и ценности других культур2,77
Способность определять цели деятельности2,75
Способность добиваться результатов2,75
Умение работать в команде2,75
Умение систематизировать информацию2,71
Лидерские качества2,65
Системно-целевые компетенции
Умение превращать информацию в технологию достижения результата2,58
Способность системно мыслить2,42
Способность общаться со специалистами из других областей2,42
Способность к эффективной коммуникации2,38
Способность брать на себя ответственность за выполнение задач2,30
Способность к исследовательской работе2,30
Умение прогнозировать2,29
Личностно-коммуникативные и адаптивные компетенции
Дальновидность2,25
Способность к нестандартным решениям2,21
Решительность2,17
Способность управлять людьми2,00
Навыки управления проектами1,96
Умение работать в условиях рисков и неопределенностей1,95
Умение представлять свои работы в письменной форме на иностранных языках1,87
модель позволила предложить иерархическую типологию компетенций:
-
■ личностно-коммуникативные и адаптивные компетенции;
■
системно-целевые
компетен-
ции;
■
ценностно-волевые
компетен-
ции
■
профессиональные
компетен-
ции.
Есть основания для упорядочения этих компетенций в приведенной последовательности. Самыми простыми являются компетенции профессиональных знаний, умений и навыков. Они составляли смысл марксова товара «рабочая сила» и были доминантными на рынках труда индустриальных обществ. Это компетенции уходящей эпохи индустриального мира.
Здесь речь идет о работниках развивающегося капитализма, свойственного Европе XVIII–XX вв. Трудно отнести их все к создаваемым высшей школой. Эти ценности формируются в семье, в школе, в социокультурном поле общества. Это ценности веберовского «духа капитализма» [10], они выделываются культурной практикой социальной повседневности. Это такие ценности, как толерантность, способность к критическому оцениванию себя и других, способность к творчеству, умение и желание постоянно учиться, мобильность. Эти компетенции самым высоким образом оценили наши эксперты ( в интервале от 2,83 до 3,79 баллов ).
Становление постиндустриальных обществ стало предъявлять новые и более высокие требования к компетенциям. Рынок труда требовал работников с высокими ценностно-волевыми компетенциями – эрудированных, культурных и самостоятельных. Компетентности этого уровня экспертами оценены уже ниже ( в интервале от 2,65 до 2,83 баллов) .
Еще хуже обстоят дела с системноцелевыми компетенциями, требующими работника с системной культурой, способного понимать смысл своей деятельности и организовывать ее для достижения прикладных целей, т.е. «мыслить глобально и действовать локально» (по А. Печчеи [11]). Способность высшей школы формировать компетенции этого уровня оценена экспертами низко ( в интервале от 2,30 до 2,71 балла ).
Совсем плохо обстоят дела с формированием компетенций, позволяющих жить и трудиться в обществах с тотальной и системной неопределенностью развития как на макро, так и на микроуровне. Это – люди, обладающие качествами прогнози- рования и дальновидности, хорошими адаптивными ресурсами психики, нестандартно мыслящие и хорошо коммуникативно вооруженные, что делает их жизнь мобильной. Они способны к инновационной проектной работе. Рутинность индустриального труда воспринимается ими уже как атавизм уходящего мира индустриальных экономик. Вот эти компетенции как раз практически не способна производить наша высшая школа, так как сама профессура не обладает ими. Производство этих компетенций эксперты оценили удручающе низко (в интервале от 1,87 до 2,25 баллов).
Самыми острыми, с точки зрения экспертов, выражающих потребности бизнес-практик, являются компетенции, ориентированные на экономики постиндустриального уклада. Это уже не теория, а практика. Сегодня требуются специалисты, способные обеспечить пассионарный рывок в мир постиндустриальных обществ. Эти компетенции являются «узкими местами» дальнейшего развития бизнеса в России. Самое тяжелое положение связано со способностью работать в «командах» над проектами и управлять проектной деятельностью. Спрос на них очень высок, а уровень формирования их крайне низок. Обширен и список компетенций, спрос на которые тоже высок, но высшая школа крайне плохо реагирует на это. Речь идет о компетенциях по коммуникациям вообще и в поликультурной среде в частности. В этот список эксперты включают и компетенции, определяемые качествами личности (лидерство, дальновидность, самокритика, решительность, целеустремленность).
Выполнить университетам этот «заказ» рынка будет не просто. Прежде всего из-за трудностей привития лич- ностных качеств. Одним из путей здесь может быть ужесточение отбора абитуриентов. Другой путь – усиление психологического обеспечения педагогической деятельности университета и применение психокоррекционных технологий. Третий путь — вовлечение студентов в практическую деятельность, способную развить необходимые качества личности. Четвертый и главный путь — работа с профессорско-преподавательским составом и его обновление.
Мы демонстрируем и свою неспособность производить компетенции уже нарождающегося в России общества постиндустриального уклада, общества «экономики знаний».
Высшая школа никогда не должна примитивизироваться до уровня «ларька знаний», производя только те компетенции, на которые есть спрос на сегодняшнем рынке, ориентируясь на технологически отсталые экономические кластеры. Мы обязаны формировать рынок, производя сегодня компетенции, сомнительные для практик сегодняшнего дня, но уже с проявляющимся спросом в будущем. Модель иерархии компетенций – это модель тяжелейшего конфликта между нуждами примитивной и удобной для подавляющей части населения (и профессуры наших университетов) экономики спокойного и стабильного «вчера» и инновационной неопределенной, высокорисковой и мобильной экономики «завтра», но уже зарождающейся сегодня. Ключи решения этого конфликта лежат в карманах руководителей системы высшего профессионального образования страны.
Такую масштабную проблему можно решить только при условии мобилизации всех общественных ресурсов, и прежде всего – государственных. Программа развития образования поистине должна стать приоритетной и национальной. Такой, какой видел ее, к примеру, Ф.М. Достоевский: «Чтобы изобретать машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписанная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки... не имеется… Возьмите и просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать, по крайней мере, столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, — взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение... Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего… Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых: и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и ни какими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну а на века надо время, годков эдак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнию нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша... была не совсем-таки самостоятельной. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак не возможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли. А мы застряли…» [12. С. 80–81]. Читая этот фрагмент дневников Достоевского, легко потерять ориентацию во времени. Это ведь про сегодня речь, не так ли? Как будто остановилось время в наших Палестинах.
Выпускники московских вузов: что о них говорят эксперты. Сегодня в России работает 1342 вуза, в которых обучается 7,3 млн студентов.
Лидером здесь, как и ожидалось, является Москва. В ней обучается 17% всех студентов России. Здесь расположены 21% всех вузов страны [13]. Москва действительно является вузовской, студенческой и профессорской столицей страны. Влияние Москвы на развитие высшей школы просто трудно переоценить. В Москве расположены лучшие вузы, задающие тон в системе образования страны. Естественно, эксперты отдельно оценили потенциал и качество производимых компетенций в московских университетах и академиях.
В табл. 4 приведены оценки обладания компетенциями выпускниками московских вузов, работающих в компаниях экспертов. Заметим, что 39% экспертов заявили, что в их компании работают выпускники московских вузов.
Таблица 4
Зависимость оценок компетентностного потенциала компании от работы в них выпускников московских вузов
|
Компетенции |
Работают ли в компании выпускники московских вузов |
Средняя оценка (пятибалльная шкала) |
|
Способность к эффективной коммуникации |
да |
2,56 |
|
нет |
2,11 |
|
|
Способность определять цели деятельности |
да |
3,11 |
|
нет |
2,33 |
|
|
Способность добиваться результатов |
да |
2,78 |
|
нет |
2,56 |
|
|
Способность брать на себя ответственность за выполнение задач |
да |
2,38 |
|
нет |
2,00 |
|
|
Умение превращать информацию в технологию достижения результата |
да |
2,89 |
|
нет |
2,11 |
|
|
Умение прогнозировать |
да |
2,33 |
|
нет |
1,89 |
|
|
Способность управлять людьми |
да |
2,11 |
|
нет |
1,89 |
|
|
Решительность |
да |
2,00 |
|
нет |
2,22 |
|
|
Умение применять знания и навыки к анализу конкретных ситуаций |
да |
3,22 |
|
нет |
2,78 |
Продолжение табл. 4
|
Компетенции |
Работают ли в компании выпускники московских вузов |
Средняя оценка (пятибалльная шкала) |
|
Дальновидность |
да |
2,33 |
|
нет |
2,00 |
|
|
Умение представлять свои работы в письменной форме на |
да |
2,00 |
|
иностранных языках |
нет |
1,80 |
|
Толерантность |
да |
2,67 |
|
нет |
3,11 |
|
|
Понимание профессиональных перспектив |
да |
2,56 |
|
нет |
3,33 |
|
|
Способность к критике и самокритике |
да |
2,89 |
|
нет |
3,22 |
|
|
Способность учитывать нормы и ценности других культур |
да |
2,75 |
|
нет |
2,89 |
|
|
Компьютерная грамотность |
да |
3,78 |
|
нет |
3,78 |
|
|
Общая эрудированность |
да |
2,56 |
|
нет |
3,11 |
|
|
Умение работать в команде |
да |
2,67 |
|
нет |
2,78 |
|
|
Лидерские качества |
да |
2,33 |
|
нет |
2,75 |
|
|
Мобильность, максимальная адаптивность, умение |
да |
2,78 |
|
ориентироваться в быстро меняющихся условиях |
нет |
2,67 |
|
Способность системно мыслить |
да |
2,56 |
|
нет |
2,11 |
|
|
Умение и желание постоянно учиться |
да |
3,13 |
|
нет |
2,67 |
|
|
Установка на карьерный успех |
да |
3,67 |
|
нет |
4,00 |
|
|
Способность к нестандартным решениям |
да |
2,22 |
|
нет |
||
|
Навыки управления проектами |
да |
2,00 |
|
нет |
1,88 |
|
|
Способность общаться со специалистами из других областей |
да |
2,33 |
|
нет |
2,44 |
|
|
Способность к исследовательской работе |
да |
2,11 |
|
нет |
2,50 |
|
|
Приверженность этическим нормам |
да |
2,56 |
|
нет |
3,00 |
|
|
Способность к самостоятельной работе |
да |
2,56 |
|
нет |
2,89 |
|
|
Креативность |
да |
2,78 |
|
нет |
3,22 |
|
|
Умение систематизировать информацию |
да |
2,78 |
|
нет |
2,44 |
|
|
Умение работать в условиях рисков и неопределенностей |
да |
2,00 |
|
нет |
1,43 |
|
|
Работают ли в компании выпускники московских вузов |
ДА |
2,82 |
|
НЕТ |
2,35 |
Данные табл. 4 позволяют с достаточной степенью уверенности утверждать, что присутствие в трудовых коллективах выпускников московских вузов является серьезным фактором, повышающим уровень компе-тентностного потенциала компании. Этот рост в совокупности составляет 17% (оценка компетенций сотрудников компаний с выпускниками московских вузов увеличивается до 2,87 с уровня компетентности в 2,35 балла в компаниях, где нет выпускников московских вузов). Нет никаких оснований считать эту оценку случайной. Это означает, что московские университеты производят высококачественный социальный капитал, обладающий компетентностями зарождающегося уклада постиндустриального и открытого общества.
Эксперты назвали компетенции, которыми лучше всего владеют выпускники московских вузов, а также компетенции, которыми выпускники столичных вузов обладают хуже всего.
Компетентностный портрет выпускников московских вузов: положительные черты
-
■ Ум, образованность. Остроумие, деликатность.
-
■ Коммуникативность и легкость общения.
-
■ Умение превращать информацию в технологию достижения результатов. Понимание профессиональных перспектив.
-
■ Знание особенностей национальных культур. Как правило, свободный английский. Есть сотрудники, владеющие 2-3 языками.
-
■ Напористость и решительность. Стремление к достижению высоких карьерных позиций.
-
■ Аналитический склад ума.
-
■ Эрудиция и начитанность. Адаптивность к другим культурам и толерантность к ним.
-
■ Креативность (приходится иногда остужать).
-
■ Умение брать на себя лидерство.
-
■ Осторожность в ведении переговоров.
-
■ Формализм взаимоотношений. Они — люди порядка.
-
■ Профессионализм в экономических вопросах.
-
■ Связи.
-
■ Способность договариваться, т.е. готовность идти на уступки (не твердо-лобость, так присущая нам, русским).
Компетентностный портрет выпускников московских вузов: отрицательные черты
-
■ Не могут применить полученные знания на практике. Либо у них не те знания. Они переучены. Правда ведь, что горе от ума. Российский бизнес еще нетехнологичен. У нас все еще он строится «по понятиям», а они пытаются его у нас переделать под Техас. Да их и учили для Техаса, а не для России. Вот и не получается у них здесь.
-
■ Им необходимо закреплять знания на практике. Они много чего знают, но мало что понимают и умеют. Их просто надо учить нашей практике ведения бизнеса, а не долбить их ненужной теорией.
-
■ У них есть проблемы с адаптацией в коллективах. Они амбициозны. Для них корка Московского университета уже является обоснованием претензий на кресло начальника. А вот ресурсов быть начальником у них нет. Это воля, умение повелевать и принимать решения, умение мотивировать людей на достижение результатов, умение пла-
- нировать и контролировать деятельность, умение подавлять эмоции и вкалывать круглосуточно. Выпускник Москвы — это оранжерейное производство. А у нас бурьян и полынь. Не для слабонервных.
-
■ Высокомерие. Зазнайство. Корыстолюбие. Стремление унизить демонстрацией московскости, нелюбимой в провинции. Жлобство.
-
■ Пренебрежительность к своим и заискивание перед иностранцами. Стремление до мелочей подражать англосаксам. Их в Москве учат быть не русскими. А они и не хотят быть русскими.
-
■ Слишком американцы. Презрение к русскости.
-
■ Плохая адаптивность в коллективах с жесткой дисциплиной.
Настораживает, что эксперты упрекают выпускников столичных университетов в отсутствии патриотизма. Конечно, каждый человек сам определяет место своего проживания и работы. Но сегодня, как никогда, страна нуждается в том, чтобы самые лучшие ее представители обеспечили новый пассионарный взрыв созидания. Это могут сделать только патриоты, обладающие современными компетенциями.
Эксперты, рассуждающие о компетенциях питомцев московских вузов, не всегда с ними работают (см. табл. 4). Основанием для оценок здесь являются представления о выпускниках столичных вузов и вообще о москвичах, сформированные в общественном сознании. Сегодня представления общественного мнения о реальности также реальны. Это про-странствовиртуальныхсимволических суждений также является социальной реальностью. Это – реальность сим- волических знаков, образов, брендов, которая определяется «сумеречными знаками бодрийяровских симулякров» [14]. Однако не стоит к ней относиться как к нереальности вовсе. В мире постиндустриальной экономики эта реальность вполне материальна своими последствиями в содержании социальных практик и поведений. Джек Траут и Эл Райс, крупнейшие американские социологи и маркетологи, убеждены в том, что сегодня «главное не в том, как вы работаете с продуктом, главное состоит в том, как вы работаете с сознанием потребителей» [15. С. 117]. Умение завоевывать доминирующие позиции в общественном сознании сегодня — это стратегическая линия наращивания конкурентоспособности московских вузов, как впрочем, и провинциальных. Имиджи, мифологизированные образы университетов и профессуры все в большей степени формируют реальное поведение при выборе вуза для абитуриентов.
В этом поле конкуренции московские выпускники выглядят не лучшим образом. О них сформировано мнение как о непатриотичных людях, с высокомерием относящихся к укладу российских бизнес-практик. Они слишком теоретики и не знают русскую жизнь. Они выращены как декоративные (эксперт сказал — «оранжерейные») специалисты, а нужны на российском рынке, как следует из этого высказывания, «волкодавы». Впрочем, и в этом виртуальном мире признаются и ум, и остроумие, и профессионализм, и коммуникативность выпускников столичных вузов.
Уже этого достаточно для того, чтобы создать проект о ребрендинге Москвы и выпускников ее университетов. Позитивные бренды возделываются скрупулезной и целенаправлен- ной работой. Ресурсы для такого рестайлинга у Москвы есть [16. С. 110].
Образование и общество: качество социального капитала и политика модернизации. Модернизация России как доктрина нового постиндустриального развития страны предполагает изменение модели и политики развития. На смену моделей количественного и ресурсоемкого роста должны прийти модели качественного изменения социальной жизни, не связанные с объемами вовлекаемых в экономический оборот природных ресурсов и энергии. Природные материальные и энергетические ресурсы традиционного роста исчерпаны или близки к исчерпанию. Важнейших для сегодняшнего роста страны стратегических ресурсов нефти и газа хватит то ли на 20 лет (пессимистический прогноз), то ли на 50 лет (оптимистический прогноз). Рост валового внутреннего продукта в России определяется прежде всего добычей и продажей энергоресурсов. За время постсоветских реформ так и не удалось добиться роста ВВП за счет модернизации производственного аппарата экономики и роста его эффективности.
Смена цивилизационных парадигм предполагает как минимум одно фундаментальное условие: новое качество модернизационного развития обусловлено приоритетным развитием образования, культуры, науки. Все эти институты производят в обществах особый ресурс — социальный капитал*. Качество этого ресурса определяется прежде всего ка- чеством образования. Приоритетность человеческого капитала определяет и идеологию новой постиндустриальной экономики — экономики знаний.
Условие приоритетности человеческих ресурсов никогда не выполнялось за всю историю России, как дореволюционную, так и советскую. Не соблюдается и сегодня. Социальный капитал в экономике знаний является единственным безгранично воспроизводимым ресурсом, способным при его опредмечивании в социальных практиках принести инновационный пассионарный эффект. Общепринято рассматривать социальный капитал как меру образовательного и культурного потенциалов страны.
Система образования здесь является средством производства социального капитала и его культурных, инновационных, коммуникативных, производительных, энергетических качеств. Системы образования в экономиках, основанных на знаниях, уже не являются «кузницами кадров» и средством производства утилитарных знаний, умений и навыков. В мире утилитарного функционирования система образования обречена на производство образовательных услуг. Однако в новом мире XXI в. уже осознано, что образование — это ведь и образцы повседневного общепринятого поведения в быту и на производстве, и традиции, и верования, и ценности, и смыслы, и идентичности, и гражданственность, и идеологии, и произведения институциональной культуры (искусства, литература, наука), т.е. все, что формирует как внутреннюю социальную обстановку в стране, так и образ (бренд) нации и страны. Образование как отрасль по производству социального капитала — это и способность нации к производству новых образцов поведения в многообразных социальных практиках, способность к эффективному и добросовестному труду, способность к гуманным отношениям.
В странах с постиндустриальным уровнем социального развития их конкурентоспособность определяется уровнем и качеством систем образования. В этих экономиках при росте инвестиций на 1% в систему образования ВВП увеличивается на 4–6%. Нам пока такой эластичности добиться невозможно. Сегодня требуются серьезные и долговременные вложения в систему образования. Отдачи от таких стратегических инвестиций можно ожидать лет через 40.
В докладе Счетной палаты по результатам проверки эффективности госрасходов по федеральной программе «Интеграция науки и высшего образования России на 2002–2006 гг.», представленном на коллегии Палаты 27 сентября 2006 г. ее председателем С. Степашиным говорится: «Развитые страны тратят на образование… гораздо больше, чем на оборону. Однако в России — прямо противоположная структура бюджетных расходов. Из-за низких расходов на образование и науку большинство отраслей в России отстает от промышленно развитых стран на 45–50 лет… В стране нет единой государственной политики в области науки и образования…».
Справедливость этого весьма жесткого вывода подтверждается и следующими данными. Если сравнить объемы ВВП, приходящиеся на душу населения в США и России, то они соотносятся в пропорции 11 к 1. Расходы же на образование соотносятся уже как 26 к 1. Отсюда выходит, что по сравнению с расходами на систему образования у американцев наша система образования недофинансирована в 2,4 раза.
Мы этим демонстрируем откровенную скаредность и к образованию, и к детям и педагогам страны .
Можно сделать промежуточный вывод. Надо реально, а не пропагандистски, сделать «Образование страны» подлинным национальным проектом. Начинать же надо с модернизации учительского и преподавательского корпуса, с модернизации педагогических университетов, а также аспирантуры и докторантуры, создавая при этом условия для возвращения наших ученых на Родину.
Россия на мировых рынках образования выглядит неконкурентоспособной. Сегодня это проявляет себя в том, что педагоги высшей школы в учебном процессе репродуцируют западные знания или по-прежнему эксплуатируют учебники советских времен (в том числе и по общественным дисциплинам). Репродуктивная педагогика разрушает российские основания нашей высшей школы. Запретить это нельзя, но можно преодолеть это развитием вузовской науки, для чего нужны деньги, и не малые. Проект «Сколково» в этой модели выглядит внесистемно, как стремление быстро и просто все решить.
Вхождение в Болонский процесс, но не как политический акт, а как педагогическая практика, требует государственных усилий по обеспечению приличного уровня знаний английского языка всеми выпускниками средней школы России. Язык — это понимание, это стремление узнать и показать. Мы и Запад знаем друг о друге только через телевизор и газеты. Незнание всегда пугает. Незнание — это хороший и эффективный ресурс для мобилизации агрессивности, зависти и конфронтации.
Новый виток российской модернизации (а начнется ли он?) – это развитие, возможное только на основании инновационного потенциала человеческого капитала, способного к поиску многообразных каналов эволюции цивилизации и выбору улучшающих жизнь людей. Без соблюдения этого условия мы обречены на изнурительную и бесконечную догоняющую модернизацию, связанную с заимствованиями и копированием образцов западной практики. Надо добиваться, чтобы западные инвесторы пришли к нам с «умными деньгами», способными модернизировать нашу перерабатывающую промышленность. Пока они не идут на это. Мы для них инвестиционно не привлекательная страна. Можно назвать только два–три примера глубокой модернизации, выполненной западными инвесторами. Это модернизация табачной и пивной промышленности, а также отрасли связи. И все. Объяснения этому есть: низкое качество трудовых ресурсов, плохая дисциплина труда, низкое инженерное и управленческое обеспечение производств. Инвестиционная привлекательность для нас связана с приоритетами профессионального образования на всех уровнях.
В модели инновационной модернизации политические приоритеты правительства России должны быть смещены в область наращивания мощи и качества человеческого капитала, основанного на культуре, образованности и духовности. Модернизация России в такой парадигме развития означает переход от политики «силовиков» к политике «мозговиков» и духовно ответственных людей. Нам бы не «Мистрали» у Франции покупать, а привлекать их ученых и инженеров в наши университеты, на ими построенные у нас заводы.
Вряд ли такое случится завтра, но без этого не произойдет нового пассионарного рывка нашего социального и экономического развития. Это означает включение институтов образования, культуры, религии и семьи в инвестиционное поле производственной деятельности: здесь создается человеческий капитал. Не армия, не спецслужбы, не правоохранительные органы, а школа, университет и научная лаборатория составляют приоритеты постиндустриальных успехов России как великой державы. Правоохранительные органы усиливают свою мощь строго пропорционально снижению качества социального капитала. Все, что новая Россия сэкономила на образовании молодежи за последние 15 лет, в многократном размере сегодня тратится на борьбу с ней. На обустройство тюрем, на лечение от СПИДа и наркомании, на подавление волн насилия.
В капитальном труде «История России. 20 век» приводятся данные о прямых потерях населения в России после1917 г.Онискладываются изпотерь в Гражданскую войну и голода (12 млн человек), от коллективизации и голода (9 млн), от террора и репрессий (2,7 млн), в Отечественную войну (27 млн), от голода 1947 г., смертности в лагерях (1,3 млн человек). Всего историки оценили прямые потери населения в 52 млн человек. Однако есть и непрямые потери населения, определяемые неродившимися детьми. Эти потери историки оценили в 40 млн человек [18. С. 186].
Россия в XX в. в большей степени не наращивала, а постоянно транжирила свой человеческий капитал, теряя способность к качественной инновационной созидательной деятельности.
Идеологии Российской государственности просто нет, и не видно попыток ее создания. Идеология — это ведь образ будущего, система социально привлекательных идеалов. Справедливость; свобода; равенство; братство; уверенность в будущем; надежда и доверие. Большевики смогли создать такую привлекательную идеологию, сделав из выстрела «Авроры» символ будущего мира. Американцы сделали из мирового эмигрантского сброда нацию, предложив Великую Идеологию свободы, равенства и неограниченных возможностей самореализации. А что в России? Ложь приватизации, цинизм олигархов, разврат элит, мздоимство чиновников, война в Чечне, суверенная демократия — это и есть наши идеалы?
Идеологическое обеспечение власти и идеология государства начинаются с момента, когда власть начинает говорить правду народу. Надо начать разговор о приватизации, о бедах октября 1993 г., о режиме олигархов, о Чечне. Власть не должна отдать эти темы оппозиции. Объяснения этих и других событий нашей истории — это и есть проектирование идеологии. Идеологии не бывает без Героев. Кто сегодня помнит имена трех парней, погибших в августе 1991 г.? Что, чеченская кампания не дала России героев? Или эта война породила только Буданова? А сегодня — кто в России Герой? Назовите имена, сделайте легенду из сегодняшнего менеджера, предпринимателя, ученого-первооткрывателя, нефтяника, полицейского (у нас сегодня полицейский из сериалов — это тот же бандит, но хуже). Проследите, чтобы среди Героев был и чеченец, и татарин, и бурят… Героям подражают… Отсутствие идеологии — это не просто деидеологизация, это дегероизация нации .
Дегероизация особенно опасна для молодежи: им тяжело без при- меров Героев. Они, конечно, у них есть: Шварценеггер, Мавроди, Фреди Крюгер, Мадонна и им подобные. Вряд ли на таких идеалах мы построим великую Россию. Горе стране, у которой нет Героев. Горе стране, которая нуждается в Героях.
Следует решительно признать, что школа является идеологическим институтом. В школе нужны новые учебники истории. У нас нет хороших и по-настоящему идеологизированных учебников истории (не в манере «Краткого курса…»), потому что политический класс не имеет представ- ления о государственной идеологии России и толком не может сказать, а что же мы сегодня строим? Какую Россию мы видим лет через 20, 30, 50? Мы так и не решили, как же нам обустроить Россию. Отсутствие идеологических образов будущего не позволяет и оценить прошлое. Вот и выходит, что мы — нация без будущего и без прошлого. Это — идеологическая катастрофа. Она лишает человека важнейшего качества — идентичности с другими. Обретение социального МЫ надо начинать со школы, с университетов.