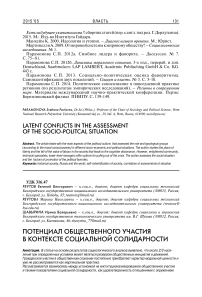Потенциал общественного участия в контексте социальной солидарности
Автор: Реутов Евгений Викторович, Реутова Марина Николаевна, Шавырина Ирина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе результатов социологического анализа выявлено, что около 2/3 населения при определенных условиях может являться резервом общественных инициатив и движений. Гражданское участие в общественном сознании постепенно приобретает характер модальной ценности и уже не рассматривается как маргинальная практика. Установлена взаимосвязь между установкой на институционализированное общественное участие и такими показателями социальной солидарности, как удовлетворенность отношениями с окружением и доверие к общественным и государственным институтам. Авторы резюмируют, что благоприятный социальный климат в локальных сообществах не только зависит от уровня гражданской активности их участников и готовности к ее проявлению, но и сам является результатом развития активистских практик и установок.
Общественное участие, социальное доверие, активистские практики, социальная солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167921
IDR: 170167921 | УДК: 316.47
Текст научной статьи Потенциал общественного участия в контексте социальной солидарности
П роблематика социальной солидарности периодически возникает в российском общественно-политическом дискурсе. С одной стороны, актуализация проблем интеграции, консолидации, солидарности стала реакцией на высокий уровень социальной разобщенности и атомизации российского общества, с другой – ответом на политический заказ, сформированный в рамках консервативного тренда 3-го президентского срока В. Путина. Хотя необходимо отметить, что включение идеи солидарности в общественный дискурс произошел несколько ранее – в рамках разработки соответствующих региональных концепций и идеологем, а также благодаря активной поддержке РПЦ. Так, с конца нулевых годов идея солидарности как ключевого целевого ориентира развития общества стала концептуально оформляться в Белгородской обл., реализовавшись в итоге в принятии Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы, утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 г. № 435-пп. Идея солидарности фигурировала в качестве центральной темы XVII Всемирного русского народного собора (2013 г.), сформулированной как «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа». В начале 2015 г. патриарх Кирилл в очередной раз вернулся к идее солидарности как ключевой, традиционной для российского общества, в противовес конкуренции 1 .
Очевидно, что позиция патриарха, противопоставившего солидарность и конкуренцию, является не единственным концептуальным обоснованием идеи солидаризации российского общества. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, следует отметить, что конкуренция, как и конформизм, естественны для любой дифференцированной социальной системы. Вопрос лишь в пределах, сдерживающих и то и другое. В российском обществе молчаливая лояльность (терпение) всегда была в избытке. И этому много причин – социальных, социокультурных, политических и пр. Неготовность же индивида мириться с обстоятельствами и стремление изменить их нередко негативно воспринимаются социальным окружением и институтами контроля.
Целью данной статьи является характеристика потенциала общественного участия населения региона и его влияния на такие показатели солидарности, как удовлетворенность отношениями с окружением и доверие государственным и общественным институтам. Эмпирической основой исследования стали результаты социологического опроса, проведенного в Белгородской обл. по репрезентативной выборке ( N = 1 004).
Результаты опроса позволяют утверждать, что активная гражданская позиция постепенно приобретает характер модальной ценности. Так, респондентам был задан вопрос о том, как они относятся к людям, «которые пытаются как-то организовать других людей, решить какие-то общие проблемы, собирают подписи, собрания». Лишь у десятой части опрошенных (10,76%) такая жизненная позиция вызывает подозрения, немногим более половины респондентов (53,98%) отметили уважительное отношение к таким общественникам; остальные же 35,26% респондентов затруднились определить свое отношение.
При этом, судя по ответам на последующие вопросы, мнение респондентов о людях, проявляющих общественную активность, в большинстве случаев не абстрактно, а имеет под собой реальные основания. Так, в общей сложности 72,91% опрошенных отметили наличие таких общественников в своем окружении. Правда, лишь у 14,94% респондентов таких людей в окружении много. Как правило, они немногочисленны, на что указали 57,97% респондентов. Не имеют в своем окружении общественных активистов 26,69% опрошенных.
Наличие в ближайшем и опосредованном окружении позитивных примеров гражданского активизма в значительной мере обусловливает декларируемую готовность респондентов самим включиться в соответствующие практики. Естественно, декларируемая готовность не ведет автоматически к переходу к конкретным действиям. Прежде всего, помимо преодоления социокультурного барьера – сформировавшейся установки на атомизированный образ жизни, необходим комплекс факторов, связанных, прежде всего, с нарушением привычного образа жизни, конфигурации сложившихся отношений с внешней средой. Почти для трети респондентов (29,08%) – это нарушение их прав. В этом случае они могли бы изменить привычный образ жизни и включиться в активистские практики. Нарушение прав окружающих может быть стимулом уже для меньшего числа респондентов – 13,15%. Однако уровень декларируемого альтруизма, в целом, довольно высок, поскольку еще 30,48% опрошенных готовы включиться в общественные инициативы, «если бы нужно было добиться решения какой-то общественной проблемы». Только 15,14% респондентов указали на невозможность стать общественником в принципе – вне зависимости от какой-либо ситуации. И еще 13,55% затруднились с ответом. Таким образом, около 70% населения являются резервом для общественных организаций и движений.
Аналогичным образом тенденцию к росту бескорыстных, альтруистических мотивов общественного участия зафиксировало исследование Института социологии РАН (2014 г.). И это – принципиальное изменение ситуации в российском обществе, «поскольку еще совсем недавно политическое и общественное участие, если оно не сулило каких-то прямых материальных или карьерных выгод, рассматривалось значительной частью населения, включая активистское, “продвинутое” меньшинство, как деятельность сугубо маргинальная» [Петухов и др. 2014: 14].
Возможность своего включения в работу какой-либо общественной организации на постоянной и безвозмездной основе отмечают 46,02% респондентов при 28,69% исключающих такую возможность. 25,30% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Тем не менее тот факт, что практически половина опрошенных рассматривают себя в качестве потенциальных участников общественных объединений, говорит уже не только возможности их мобилизации на «разовые» гражданские инициативы, но и об установке на институционализированное гражданское участие постоянного либо возобновляющегося характера.
Как было отмечено ранее, диагностика отмеченных показателей осуществлялась также с целью выявления корреляции между установкой на институционализированное гражданское участие и субъективной оценкой качества социальных отношений (в горизонтальном и вертикальном измерениях). Одной из гипотез исследования было предположение о том, что наличие активистских установок, готовность к гражданскому участию, к кооперации влияют на позитивный социальный климат в локальных сообществах и на формирование солидарных отношений.
Среди респондентов, допускающих для себя возможность постоянной безвозмездной работы в общественной организации, отношения с родственниками оценивают как хорошие, доброжелательные 93,51%, как плохие, напряженные – 0,00%. Среди респондентов, исключающих для себя возможность работы в общественной организации, оценивают свои отношения с родственниками как хорошие 89,58%, как плохие – 2,08%.
Среди тех, кто допускает возможность работы в общественной организации, отношения с соседями оценивают как хорошие 67,53%; среди тех, кто исключает такую возможность – 65,28%. И в том и в другом случае разница находится в пределах статистической погрешности. Однако нужно учесть, что доля оценивающих отношения как с родственниками, так и с соседями в позитивных коннотациях, велика сама по себе. Поэтому внутри данной подгруппы различия по иным параметрам сглаживаются.
Однако при увеличении радиуса социальных отношений наличие установки на работу в общественной организации повышает вероятность их позитивной оценки. Так, 54,11% тех, кто считает для себя возможной работу в общественной организации, оценивают отношения между людьми в городе (поселке, селе), в котором они проживают, как хорошие, доброжелательные. Среди тех, кто такую возможность исключает, доля позитивных оценок составляет 45,14%.
То же самое касается и оценки «вертикальных» коммуникаций – с представителями официальных учреждений. Респонденты, допускающие возможность работы в общественных организациях, более склонны оценивать отношение к ним со стороны сотрудников государственных и муниципальных учреждений как хорошие, доброжелательные (35,50% против 27,78% среди тех, кто исключает для себя возможность общественной работы).
Еще в большей степени наличие установки на институционализированное общественное участие влияет на доверие публичным институтам. Так, среди допускающих личное участие в деятельности общественных структур в той или иной мере доверяют руководству области 69,70%; среди исключающих такое участие – лишь 47,23%. Разница весьма ощутима – 22,47 п.п. То же самое касается и доли не доверяющих руководству. Среди допускающих общественную работу она составила 22,07%, среди исключающих ее – 38,89%. Разница – 16,82 п.п.
Среди допускающих личное участие в деятельности общественных структур в той или иной мере доверяют руководству городского округа (муниципального района) 64,50%; среди исключающих такое участие – лишь 45,83%. Разница, таким образом, составляет 18,67 п.п. То же самое касается и доли не доверяющих муниципальному руководству. Среди допускающих общественную работу она составила 26,41%, среди исключающих ее – 38,89%. Разница – 12,48 п.п.
Среди допускающих личное участие в деятельности общественных структур в той или иной мере доверяют правоохранительным органам 63,21%; среди исключающих такое участие – лишь 40,97%. Разница – 22,24 п.п. То же самое касается и доли не доверяющих правоохранительным органам. Среди допускающих для себя работу в общественных организациях она составляет 31,17%, среди исключающих ее – 49,30%. Разница – 18,13 п.п.
Естественно, что наличие/отсутствие установки на работу в общественной организации очень сильно связано с доверием самим общественным организациям. Среди допускающих личное участие в деятельности общественных организаций в той или иной мере доверяют им 57,14%; среди исключающих такое участие – лишь 36,11%. Разница – 21,03 п.п. То же самое касается и доли не доверяющих общественным организациям. Среди допускающих общественную работу она составила 30,74%, среди исключающих ее – 42,36%. Разница – 11,62 п.п.
Среди допускающих личное участие в деятельности общественных организаций в той или иной мере доверяют СМИ 55,85%; среди исключающих такое участие – лишь 43,06%. Разница – 12,79 п.п. То же самое касается и доли не доверяющих СМИ. Среди допускающих общественную работу она составила 38,10%, среди исключающих ее – 49,31%. Разница – 11,21 п.п.
В подгруппе респондентов, допускающих личное участие в деятельности общественных организаций, в той или иной мере доверяют церкви, религиозным организациям 66,23%; среди исключающих такое участие доверяющих ощутимо меньше – 50,69%. Разница – 15,44 п.п. Фактически та же разница – в доле не доверяющих. Среди допускающих общественную работу она составила 25,11%, среди исключающих ее – 40,28%. Разница – 15,17 п.п.
Таким образом, проведенный социологический анализ выявил значимость установки на институционализированное общественное участие для таких показателей социальной солидарности, как удовлетворенность отношениями с окружением и доверие общественным и государственным институтам. Вместе с тем следует отметить неочевидность прямой причинно-следственной связи между этими переменными. Скорее всего, эта взаимосвязь имеет статистический характер. То есть, благоприятный социальный климат в локальных сообществах не только зависит от уровня гражданской активности их участников и готовности к ее проявлению, но и сам является результатом развития активистских практик и установок.
Если зависимость между установкой на институционализированное общественное участие и позитивной оценкой отношений с окружением является относительно слабой и проявляется, прежде всего, на мезоуровне (город, поселок, село), то связь данной установки с доверием общественным и государственным институтам выглядит бесспорной. В наибольшей степени данная зависимость проявляется применительно к доверию руководству области и муниципального района (городского округа), правоохранительным органам, общественным организациям и церкви.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Белгородской области. Грант «Потенциал общественных организаций в формировании регионального солидарного общества» № 14-13-31008 (рук. Е.В. Реутов).
Список литературы Потенциал общественного участия в контексте социальной солидарности
- Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. 2014. Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия. -Власть. № 9. С. 11-19