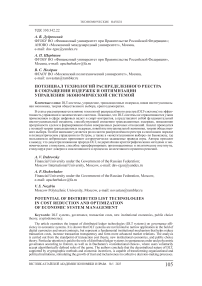Потенциал технологий распределённого реестра в снижении издержек и оптимизации управления экономической системой
Автор: Дубровский А.В., Щербаков А.П., Ноздрин В.С.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 5-1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние технологий распределённого реестра (DLT-системы) на эффективность управления в экономических системах. Показано, что DLT-системы не ограничиваются узким применением в сфере цифровых валют и смарт-контрактов, а представляют собой фундаментальный институциональный механизм, способствующий снижению трансакционных издержек, повышению прозрачности сделок и формированию более совершенных рыночных отношений. Анализ проводится с позиций теории трансакционных издержек, новой институциональной экономики, теории общественного выбора. Особое внимание уделяется роли систем распределённого реестра в спонтанном порядке и полицентрическом управлении по Остром, а также в «конституционном выборе» по Бьюкенену, где пользователи добровольно принимают алгоритмически задаваемые правила игры. Авторы приходят к выводу, что децентрализованная природа DLT, подкреплённая криптографическими методами и экономическими стимулами, способна трансформировать организационные и политические институты, стимулируя рост доверия и инклюзивности в процессах коллективного принятия решений.
DLT-системы, управление, трансакционные издержки, новая институциональная экономика, теория общественного выбора, криптодемократия
Короткий адрес: https://sciup.org/142244429
IDR: 142244429 | УДК: 330.342.22
Текст научной статьи Потенциал технологий распределённого реестра в снижении издержек и оптимизации управления экономической системой
Внедрение новых технологий всегда оказывало масштабное влияние на социально-экономические процессы, выходя далеко за рамки их прикладного применения. В работе «Парадокс информационных технологий» П. Кругман, приходит к выводу, что технологии не просто облегчают определённые операции, но и фундаментально влияют на сложившиеся отношения между акторами, трансформируя саму систему координации [5]. Одной из таких революционных разработок в настоящее время выступают технологии распределённого реестра, являющиеся одновременно информационно-вычислительными, институциональными и социальными решениями.
Информационно-вычислительная составляющая DLT-технологий базируются на криптографических методах проверки подлинности транзакций и децентрализации данных. Они находят проявление в создании цифровых валют, смарт-контрактов (в частности, реализованных на базе технологии блокчейн), что позволяет безопасно взаимодействовать агентам даже при отсутствии доверия.
Однако это лишь одно из направлений использования распределённых реестров. С институционально-экономической и социальной стороны, они являют собой новые подходы к обеспечению прозрачности, взаимодействию и принятию эффективных решений. DLT-технологии могут быть задействованы в решении координационных задач в самых разных сферах: от системы распределения государственных финансов до регистрации прав собственности и личных данных [1]. Спецификой систем распределённого реестра является децентрализованный механизм консенсуса, обеспечивающий безопасность даже в условиях потенциального враждебного окружения и исключающий наличие третьей стороны – арбитра.
Исследование применения DLT-технологии в экономике тесно связано с концепцией так называемого совершенного рынка, традиционно рассматриваемой в политической экономии в качестве наиболее эффективной формы координации. Как известно, в «идеальном» рынке не возникает проблем с производством общественных благ, отсутствуют внешние издержки, требующие корректировки. Реальная же система функционирует иначе, что порождает феномен «провалов рынка». В этой связи Вагнер [16] вводит понятие «аддитивной политической экономии», подчёркивая роль политических механизмов в заполнении «дыр» в образном бухгалтерском балансе рыночных сделок. Тем самым актуализируется значимость распределенных реестров в решении вопросов, ставящих новой институциональной экономикой и теорией общественного выбора.
Таким образом, системы распределённого реестра заслуживают внимания как основа трансформации экономических институтов и механизмов координации субъектов. Возможности распределённых реестров могут расширять горизонт взаимодействия и снижать трансакционные издержки субъектов рынка, общественных институтов и государственных органов.
Опираясь на теорию трансакционных издержек, новую институциональную экономику и теорию общественного выбора, данное исследование ставит целью выявление возможностей использования систем распределённого реестра в совершенствовании экономических институтов и повышении прозрачности, доверия и эффективности управления.
Материалы и методы исследования
В работе использованы труды по новой институциональной экономике, теории общественного выбора и конституционной экономике, а также подходы отечественных и зарубежных авторов, раскрывающих влияние блокчейн-технологий и систем распределённого реестра на эволюцию политикоэкономических институтов. DLT-технологии анализируются с позиции их использования как децентрализованного управленческого механизма, снижающего трансакционные издержки посредством криптографически защищённых смарт-контрактов и распределённого консенсуса.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование влияния систем распределённого реестра на экономические процессы опирается на представления новой институциональной экономики, в частности на теорию трансакционных издержек. Как известно, более эффективная координация бизнес-процессов и повышение результативности экономической системы в целом связано со снижением трансакционных из- держек. Системы распределённых реестров вносят потенциально революционные изменения в структуру этих издержек благодаря децентрализованному механизму верификации и хранения данных, прозрачной среде для обмена информацией и применению смарт-контрактов.
Во-первых, упрощаются механизмы обеспечения исполнения соглашений: смарт-контракты автоматически исполняют условия сделки при наступлении оговорённых обстоятельств, снижая риск недобросовестного поведения [6, 7]. Во-вторых, сокращаются затраты на поиск и проверку информации: каждый участник сети может иметь доступ к актуализируемому реестру, что снижает потребность в посредниках и повышает общий уровень доверия. В-третьих, снижаются затраты на посредничество и координацию, поскольку многие функции арбитров переходят к программному протоколу. Кроме того, системы распределённого реестра помогают в защите прав собственности, а также повышает уровень доверия и прозрачности за счёт публичного и неизменяемого реестра.
Эмпирическое подтверждение эффективности распределённых реестров можно увидеть на примере платформа RippleNet, основанная на блокчейне XRP Ledger. RippleNet ориентирована на трансграничные расчёты между финансовыми учреждениями и предлагает альтернативу традиционным каналам, таким как SWIFT. Ripple сотрудничает с более чем 300 финансовыми организациями, включая Santander, Standard Chartered, PNC, SBI Holdings и другие. Платформа позволяет производить мгновенные расчёты с использованием собственного токена XRP либо через межбанковский клиринг с использованием DLT-инфраструктуры.
Согласно отчётам Ripple и независимым аудиторским исследованиям (Juniper Research, World Bank), эффективность RippleNet выражается в следующих параметрах. Средняя стоимость транзакции в сети составляет менее 0,01 USD, а время перевода – около 5 секунд, по сравнению с 2–5 днями и $15–35 в системе SWIFT. По оценкам Tower Research (2023), внедрение RippleNet позволило сократить операционные издержки банков в среднем на 62% при стандартном отклонении 8% по сравнению с традиционными SWIFT-платежами.
Интересно, что XRP Ledger использует энергоэффективный алгоритм Consensus
Protocol, а не энергоёмкий Proof-of-Work, что соответствует экологическим стандартам ESG и делает RippleNet совместимым с зелёной повесткой, особенно для европейских финансовых учреждений, ограниченных требованиями SFDR и таксономией ЕС.
Это демонстрирует не только снижение трансакционных издержек, но и ускорение ликвидности, повышение прозрачности расчётов, снижение рисков отказа и соответствие нормативным стандартам. Эмпирически подтверждается способность DLT существенно трансформировать межорганизационные расчётные процессы и повысить институциональную эффективность.
Ещё один пример – внедрение IBM Food Trust на базе блокчейна Hyperledger. В цепочках поставок продуктов питания DLT позволяет отслеживать происхождение и качество продуктов. Эксперимент Walmart показал, что время отслеживания происхождения манго сократилось с 7 дней до 2,2 секунды, что значительно снижает риски потерь и повышает доверие потребителей.
Особого внимания заслуживает ESG-аспект применения DLT. Традиционные блокчейны (например, Bitcoin) критикуются за высокое энергопотребление, обусловленное алгоритмом Proof-of-Work (PoW). В то же время появляются экологически устойчивые решения – блокчейны на базе Proof-of-Stake (PoS), потребляющие на порядок меньше энергии. Примером служит Ethereum, перешедший на PoS в 2022 году, сокративший энергопотребление более чем на 99%.
Однако существует также проблема нормативного комплаенса. Внедрение DLT сталкивается с барьерами в виде требований законодательства о защите данных (GDPR), антиотмывочного контроля (AML/ KYC) и различий в правовых системах, что требует адаптации DLT-платформ к локальным юрисдикциям.
В контексте ESG DLT требует экологической и нормативной переоценки. Сети на PoW (например, Bitcoin) потребляют энергию на уровне отдельных государств, что противоречит целям устойчивого развития. Переход к PoS (Ethereum 2.0, Tezos) существенно снижает экологический след. DLT сталкивается с юридическими барьерами: в ЕС – с принципом «права быть забытым» (GDPR), а в глобальной практике – с проблемами AML/KYC и транс- граничной юрисдикции. При этом корпоративные решения на базе Corda или Hyperledger Fabric создают задел для ESG-совместимых моделей.
Следует учитывать, что использование распределённых реестров не устраняет все издержки полностью. Например, стоимость поддержания распределённой сети (энергопотребление, вычислительные мощности), необходимость сложного консенсусного протокола, а также правовые и регулятивные барьеры внедрения технологий [2, 14]. Тем не менее, общее влияние оценивается как положительное, особенно при создании экосистем, где высокая степень прозрачности и автоматизация процессов перевешивают сопутствующие расходы.
Системы распределённого реестра вносят изменения в структуру этих издержек, главным образом за счёт децентрализованного механизма верификации и хранения данных, прозрачности среды обмена информацией и применения «умных контрактов» (smart contracts). Ниже рассмотрены ключевые каналы, через которые технологии распределённого реестра влияют на трансакционные издержки. В первую очередь это сокращение затрат на поиск и проверку информации.
В классических моделях сделок значительные ресурсы уходят на проверку благонадёжности контрагента и подлинности передаваемых прав собственности. Распределённые реестры позволяют каждому участнику сети иметь доступ к актуализируемым в реальном времени данным [12]. Это снижает потребность в посредниках, ответственных за верификацию, и позволяет экономическим агентам быстрее находить контрагентов и более прозрачно проверять историю транзакций. Таким образом, уменьшаются поисковые издержки и возрастает общий уровень доверия в системе. Далее следует упрощение механизмов обеспечения исполнения соглашений.
Традиционная система исполнения контрактов требует участия третьих сторон (например, нотариусов, судов или других юридических институтов). В условиях распределённых реестров могут использоваться смарт-контракты – программные алгоритмы, автоматически исполняющие условия сделки при наступлении оговорённых условий. Такой подход обеспечивает защиту от недобросовестного поведения сторон и сокращает издержки на мониторинг и принудительное исполнение контрактов. В результате снижается риск неопределённости и улучшается предсказуемость экономического взаимодействия. Ну и наконец снижение затрат на посредничество и координацию.
В традиционных моделях даже в относительно простых сделках может участвовать большое количество посредников: банки, брокеры, аудиторские компании. Каждый из них выступает гарантом или поставщиком части услуги, увеличивая стоимость и сложность сделки. Распределённые реестры, благодаря децентрализованному характеру подтверждения транзакций и прозрачности данных, дают возможность исключить или минимизировать роль посредников, передав их функции программному протоколу. Это уменьшает вероятность ошибок, сокращает временные задержки и делает возможным прямое взаимодействие между конечными участниками.
Особо следует выделить защиту прав собственности. Оформление прав собственности на объекты, будь то физические активы или цифровые права, в централизованных системах нередко сопровождается бюрократическими сложностями и высокими затратами. Технологии распределённого реестра могут обеспечить автоматизированный процесс регистрации, когда каждая операция не только фиксируется в блоках реестра, но и подтверждается всеми участниками сети [17]. Такая схема повышает надёжность учёта прав собственности и сокращает возможности для фальсификаций и споров относительно владения активами. Также следует отметить повышение уровня доверия и прозрачности.
В контексте информационной асимметрии стороны сделки часто сталкиваются с рисками и неопределённостью при оценке качества товаров и услуг. Системы распределённого реестра облегчают обмен достоверной информацией о состоянии активов, репутации и выполнении обязательств. Публичный доступ (при выборе соответствующей модели – публичной или гибридной) к записям может способствовать росту доверия между участниками и снижению уровня оппортунистического поведения.
Важно отметить, что в сложных многосторонних сделках по-прежнему может возникать необходимость во внешнем арбитраже [13]. Однако общее влияние распределённых реестров на снижение трансак- ционных издержек чаще всего оценивается как положительное, особенно при создании экосистем, где высокая степень прозрачности и автоматизация процессов окупают сопутствующие расходы.
Таким образом, DLT-системы представляют собой не только инструмент технической оптимизации управления, но и фундаментальный механизм снижения трансакционных издержек в духе новой институциональной экономики. Их децентрализованный характер и технологическая архитектура способны видоизменить способы взаимодействия агентов, укрепляя доверие и повышая прозрачность сделок. Это, в свою очередь, может привести к более эффективной координации действий в экономической системе и созданию предпосылок для формирования более совершенных рыночных механизмов.
Другой аспект использования распределённых реестров раскрывается в теории общественного выбора и концепции конституционной экономики, где они рассматриваются с точки зрения эффективности координации управления системой.
Концепции полицентрического управления, разработанные Элинор Остром, демонстрируют, что распределённые сообщества могут успешно управлять общими ресурсами при наличии прозрачных правил и механизмов контроля [8]. В этой связи распределённые реестры обеспечивают прозрачность, дополненную встроенными стимулами для добросовестного поведения. В политическом смысле DLT-системы могут быть применимы для «криптодемократии» и более прозрачного голосования, что стимулирует вовлечённость граждан в процессы управления. При этом роль централизованных бюрократических структур может уменьшаться, а разнообразие интересов и предпочтений находит отражение в децентрализованных платформах, где пользователи «голосуют ногами» и переходят к иным распределенным реестрам, если существующие кажутся им неэффективными.
Таким образом, применение систем распределённого реестра в общественном управлении укрепляет доверие к процедурам принятия решений за счёт автоматизации, прозрачности и защиты от подделки данных. В результате формируется конкурентная среда с высокой гибкостью, которая даёт возможность реорганизации эконо- мических и политических институтов для большей инклюзивности, эффективности и снижения трансакционных издержек.
Этот подход поддерживает идею спонтанного порядка Ф. Хайека [11], объясняя то, как возникает упорядоченная структура без централизованного контроля. В таком спонтанном порядке платформы распределённых реестров функционируют как катализатор, где множество агентов «взаимно корректируют» планы, используя преимущества децентрализованной архитектуры и криптографически защищённых транзакций.
Как известно, Ф. Хайек обозначал рыночный процесс как «каталлаксию» – спонтанный порядок, формируемый действиями агентов, руководствующихся своими частными интересами и знаниями. Аналогично этому, DLT-системы способствуют координации заинтересованных сторон: они предоставляют инфраструктуру, на базе которой возможно безопасное и прозрачное взаимодействие, но не диктуют участникам какую-либо единую иерархию целей. Следуя логике Хайека, системы распределенных реестров в меньшей степени являются «экономикой» в узком смысле (то есть системой, служащей строго определённому набору целей), а в большей степени – катализатором множества разнообразных экономических активностей. Подобная роль предполагает «вплетение» распределенных реестров в механизм спонтанного порядка, где множество агентов «взаимно корректируют» свои планы, используя преимущества децентрализованной архитектуры и криптографически защищённых транзакций [4, 10].
Для дальнейшего раскрытия управленческого потенциала технологий распределенных реестров важно обратиться к идеям конституционной экономики, которая раскрывает принципы сочетания экономической результативности и конституционных норм. В контексте использования распределенных реестров это означает, что участники выбирают протокол распределенного реестра (и его консенсусные механизмы) как взаимное обязательство, принимая тем самым «правила игры», заданные алгоритмически.
В этом смысле, когда пользователи соглашаются на определённые механизмы консенсуса и на набор взаимных ограничений, они фактически совершают конституционный выбор, становятся своеобразны- ми «конституционными сообществами», в рамках которых действует добровольный принцип единодушия при принятии правил участия.
Анализируя работы Элинор и Винсента Остром по полицентрическому управлению и анализу коллективных решений можно прийти к выводам, что в определённых условиях (особенно для небольших групп, обладающих повторяющимися взаимодействиями и взаимным доверием) самоорганизующиеся сообщества могут эффективно управлять общественными благами без жёсткой вертикальной иерархии.
В целом же DLT-системы, благодаря криптографической защите и прозрачности, можно рассматривать как «общественные блага третьего поколения». Они обеспечивают техническое решение для кооперации между распределёнными участниками. Координация реализуется без обязательной опоры на централизованное управление. Правила взаимодействия (границы, коллективный выбор, мониторинг, санкции, механизмы разрешения конфликтов и т.д.) могут быть встроены непосредственно в протокол распределенных реестров. Таким образом, архитектура технологий распределенных реестров снижает угрозу поиска ренты (rent-seeking), о котором писал Таллок [15], и злоупотреблений монопольным положением, поскольку регуляторные функции распределены между всеми участниками сети.
Сочетание криптографии и экономических стимулов (криптоэкономика) облегчает проверку транзакций (или голосов) без центральной доверительной стороны, уменьшая вероятность подделки результатов. При этом участники сети заинтересованы в сохранении репутации и функционировании системы, поскольку это определяет их будущие выгоды. Кроме того, использование технологии распределенных реестров предполагает возможность высокой масштабируемости – модель управления может быть адаптирована как к небольшим локальным группам, так и к крупным децентрализованным сообществам [3]. Такая гибкость в выборе «оптимального уровня управления» потенциально минимизирует доминирование организованных меньшинств и учитывает многообразие индивидуальных предпочтений.
В итоге, теория общественного выбора и смежные направления политэкономиче- ского анализа (новая институциональная экономика, конституционная экономика и полицентрическое управление) идеи распределенных реестров, проливают свет на оптимизацию управления экономической системой. Видение распределенных реестров как «спонтанной организации» или «каталлаксии», в которой множество агентов добровольно соглашаются на единые криптографические правила, создаёт почву для формирования более гибких, конкурентных и эффективных форм коллективного управления. Подобный подход представляется как инновационный механизм самоорганизации с высокими перспективами для будущего развития политических и экономических институтов.
Несмотря на высокий потенциал систем распределённого реестра, их применение сопряжено с рядом структурных, технических, институциональных и нормативных ограничений, которые необходимо учитывать при интеграции в управленческие процессы.
-
1. Технологические ограничения. Большинство публичных блокчейнов испытывают проблемы с производительностью при увеличении числа транзакций. Например, Ethereum до перехода на PoS поддерживал лишь 15–30 транзакций в секунду, что ограничивает применение в высоконагружен-ных системах.
-
2. Юридические и институциональные барьеры DLT-системы во многих юрисдикциях не подпадают под существующие правовые рамки. Например, в большинстве стран юридическая сила умных контрактов и децентрализованной идентификации остаётся спорной. DLT противоречит принципам «право быть забытым» (GDPR), особенно в публичных реестрах, где данные не подлежат удалению.
-
3. Социальные и поведенческие барьеры. Технологии требуют высокой цифровой грамотности от пользователей и организаций, что затрудняет широкое внедрение в развивающихся экономиках. Парадоксально, но многие пользователи не доверяют «чёрному ящику» алгоритмического управления – особенно в вопросах распределения прав, привилегий и контроля доступа.
-
4. Экономические ограничения. Разработка, аудит смарт-контрактов, интеграция и сопровождение DLT-систем требуют значительных затрат. В условиях нестабильного спроса и быстро меняющихся технологий затруднено точное прогнозирование отдачи от вложений в распределённые системы.
Алгоритмы типа Proof-of-Work требуют значительных вычислительных ресурсов, что повышает энергопотребление и снижает эффективность. Хотя более энергоэффективные консенсусы (Proof-of-Stake, PBFT) частично решают эту проблему, они менее устойчивы к ряду атак.
Несмотря на декларируемую децентрализацию, крупные валидаторы и майнеры часто концентрируют влияние, что ставит под сомнение фактическую равноправность участников.
Различные блокчейн-платформы редко совместимы между собой, что ограничива- ет их интеграцию в существующие бизнес-процессы и институциональные контуры.
Внедрение DLT часто подрывает позиции централизованных посредников (госор-ганов, банков, нотариусов), что вызывает институциональное сопротивление и лоббизм против подобных решений.
Современные требования к устойчивому развитию и корпоративной ответственности ставят перед технологиями распределённых реестров новые вызовы, связанные с экологической (E), социальной (S) и управленческой (G) составляющими (ESG).
-
1. Экологический аспект: энергопотребление и устойчивость
Классические блокчейн-сети на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW) (например, Bitcoin) подвергаются критике за экстремальное энергопотребление. Согласно данным Cambridge Centre for Alternative Finance (2023), совокупное энергопотребление сети Bitcoin превышает потребление целых государств (например, Аргентины). Это создаёт серьёзные репутационные и ESG-риски для организаций, использующих подобные решения, особенно в условиях растущего давления со стороны институциональных инвесторов, ориентированных на принципы устойчивого развития.
В ответ на это были разработаны альтернативные консенсусные алгоритмы:
-
- Proof-of-Stake (PoS), используемый в Ethereum 2.0, сокращает энергопотребление на 99,95% по сравнению с PoW.
-
- Delegated Proof-of-Stake (DPoS) и Proof-of-Authority (PoA) обеспечивают ещё более высокую энергоэффективность в корпоративных или приватных DLT-сетях.
-
2. Социальный аспект: доступ, прозрачность, инклюзия
-
3. Управленческий аспект: нормативный комплаенс и регулирование
Компании, стремящиеся к ESG-соответствию, всё чаще выбирают гибрид- ные или приватные блокчейны, где контроль над экологическими параметрами встроен в архитектуру сети.
DLT может как повышать, так и ограничивать социальную справедливость. С одной стороны, технология обеспечивает прозрачность операций, неизменяемость данных и открытый доступ, что способствует борьбе с коррупцией и теневыми транзакциями. С другой стороны, цифровой разрыв и различия в уровне цифровой грамотности могут усугубить неравенство, особенно в странах с ограниченным доступом к ИКТ.
DLT вступает в противоречие с рядом национальных и наднациональных регуляторных норм:
-
- в странах ЕС DLT-системы сталкиваются с положениями GDPR, особенно в аспекте «права на забвение», которое принципиально не реализуемо в неизменяемых цепочках блоков;
-
- система AML/KYC контроля сложно интегрируется с децентрализованной анонимностью, особенно в публичных блок-чейнах;
-
- токенизация активов, особенно в форме NFT или DeFi-продуктов, вызывает юридические споры о правовом статусе таких цифровых объектов.
Несмотря на обозначенные вызовы, происходит постепенная адаптация DLT-систем к ESG-реалиям. Так, в ЕС, США и Японии развивается регулятивная песочница (regulatory sandbox) для тестирования блок-чейн-решений в управляемых условиях.
Ужесточение отчётности по ESG-параметрам (например, CSRD, SFDR в ЕС) стимулирует переход к экологически устойчивым протоколам. Комплаенс-ориентирован-ные блокчейны (например, Quorum, Corda) уже интегрируют механизмы контроля, совместимые с юридическими стандартами.
Выводы
Технологии распределенных реестров постепенно выходят за рамки узкого применения в сфере криптовалют, становясь трансформирующим фактором в экономической и политической системах. Их влияние можно проанализировать, опираясь на несколько взаимосвязанных теоретических направлений – теорию трансакцион- ных издержек, новую институциональную экономику, теорию общественного выбора и конституционную экономику. В каждой из них распределенные реестры могут рассматриваться не только как инструмент технической оптимизации и снижения операционных затрат, но и как перспективная альтернатива привычным управленческим моделям.
Во-первых, с позиции теории трансакционных издержек, децентрализованный характер распределенных реестров значительно упрощает и ускоряет проведение сделок, снижая потребность в доверенных посредниках. Это приводит к экономии на мониторинговых и иных трансакционных издержках, что, в свою очередь, расширяет возможности экономических агентов по более эффективной координации.
Во-вторых, распределённые реестры могут реализовываться в качестве новых «правил игры» и инструментов корпоративного и общественного управления, давая участникам возможность формировать гибкие и устойчивые модели взаимодействия, адаптированные к разнообразию целей и интересов.
В-третьих, в сфере теории общественного выбора и конституционной экономики DLT-системы открывают перспективы для переосмысления коллективного принятия решений. Поскольку технологии распределённого реестра могут содержать алгоритмически проверяемые процедуры (смарт-контракты, механизмы консенсуса), пользователи фактически совершают «конституционный выбор», принимая данный протокол и связанные с ним правила. Это сближает технологию с концепциями полицентрического управления, где самоорганизация сообществ дополняет или даже конкурирует с централизованными институтами.
Несмотря на явные преимущества DLT, существуют и ограничения. Во-первых, высокая начальная стоимость разработки и интеграции. Во-вторых, парадокс централизации: при использовании публичного блокчейна доступ открыт всем, но крупные участники могут доминировать над консенсусом. В-третьих, технологическая уязвимость: при взломе смарт-контракта могут быть утеряны данные и средства. И, наконец, существует социальное неравенство доступа – не все пользователи обладают равными цифровыми компетенциями для использования таких систем.
Несмотря на это, системы распределенных реестров оказываются значимым драйвером эволюционных процессов в экономике и политике, способствуя росту прозрачности, снижению издержек и появлению новых моделей координации и управления. Их децентрализованная природа, обеспеченная криптографическими методами и экономическими стимулами, формирует почву для возникновения более открытых и эффективных рыночных отношений. При этом стоит помнить, что внедрение распределенных реестров в реальную экономику связано с различными вызовами – техническими, правовыми, регуляторными и социальными. Не существует универсальной «волшебной таблетки», которая одинаково хорошо решала бы все проблемы координации. Однако в контексте развития концепции «экономики распределенных реестров» исследования и эксперименты в этой области обещают дать богатый материал для дальнейшего совершенствования как экономических, так и политических институтов.