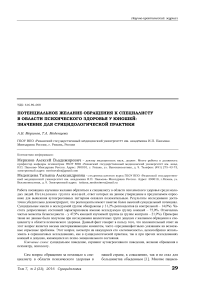Потенциальное желание обращения к специалисту в области психического здоровья у юношей: значение для суицидологической практики
Автор: Меринов Алексей Владимирович, Меденцева Татьяна Александровна
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 2 (23) т.7, 2016 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена изучению желания обратиться к специалисту в области психического здоровья среди молодых людей. Исследована группа юношей, ответ которых на данное утверждение в предлагаемом опроснике для выявления аутоагрессивных паттернов оказался положительным. Результаты исследования достаточно убедительно демонстрируют, что респонденты имеют заметно более высокий суицидальный потенциал. Суицидальные мысли в исследуемой группе обнаружены у 31,2% респондентов (в контрольной - 14,0%). Частота депрессивных состояний характеризовала именно исследуемую группу юношей - 75,0%. Отмечались частые моменты безысходности - у 47,9% юношей изучаемой группы (в группе контроля - 21,9%). Примерно такие же данные были получены при исследовании аналогичных групп девушек с желанием обращения к специалисту в области психического здоровья. Данный факт говорит в пользу того, что положительный ответ на этот вопрос является весьма настораживающим моментом, часто «предманифестным» указанием на возможные серьезные проблемы. Этот вопрос, несмотря на кажущуюся его «легковесность», целесообразно использовать в скрининговых исследованиях, как в суицидологической практике, так и при прочих исследованиях юношей и девушек, касающихся их психо-эмоционального состояния.
Суицидальное поведение, скрининг аутоагрессивного поведения, желание обращения к психиатру, психологу
Короткий адрес: https://sciup.org/140141493
IDR: 140141493 | УДК: 616.89-008
Текст научной статьи Потенциальное желание обращения к специалисту в области психического здоровья у юношей: значение для суицидологической практики
Сам вопрос обращения за помощью к спе- нашей стране, к сожалению, так и не стал для циалисту в области психического здоровья в большинства обыденным [1]. Многие пациен- ты годами обдумывают эту возможность, а для кого-то – даже необходимость, но, к сожалению, очень часто необходимый момент бывает упущен. Нередко по причине смерти посредством суицида.
В нашей стране по поводу душевных проблем люди чаще используют «советы» подруг и друзей, родственников и просто знакомых, что, безусловно, не способно разрешить серьезные проблемы. Мало помогают и психоактивные вещества, а также многочисленные сетевые сообщества, которые в ряде случаев усугубляют ситуацию [2]. Стигматизация «обратившегося» к психиатру, психотерапевту, по прежнему сильна в нашей стране [3, 4]. Многие, задумавшие обратиться к специалисту обозначенного профиля, встречают непонимание и протестные реакции окружения по этому поводу. Суть которых сводится к необходимости самостоятельного разрешения проблем и долгого «парахристианского» терпения. И если, человек, уже обратившийся, для людей занимающихся суицидологической превенцией, является определенной группой риска, просто «играющие» этой мыслью далеко не всегда рассматриваются как таковые [5]. Мы сейчас не говорим о прочих специалистах, более удаленных от суицидологической практики, многие из которых данные идеи относят к просто «модным» и точно «несерьезным». В своей предыдущей работе [6], мы рассмотрели связь такового желания и суицидологических индикаторов в женской группе. Данное исследование «закрывает» вопрос влияния гендера. Ни для кого не секрет, что среди мужчин бытует мнение, что, если ты сам не справляешься со своими трудностями, значит ты не мужчина. А если пошел к психологу или психиатру, то «значит вообще слабак». Такое заблуждение часто лишает юношей возможности адекватно разобраться в ситуации, из которой он не может выйти самостоятельно.
Таким образом, целью нашего исследования являлась оценка влияния положительного ответа на вопрос: «Хотели бы Вы обратиться к психиатру, психотерапевту или психологу» на суицидологический и личностно -психологический профиль респондентов мужского пола.
Исходя из поставленной цели, главной задачей исследования был поиск значимых отличий в суицидологическом «профиле» между группами юношей, заинтересованных и неза- интересованных в обращении к специалистам в области психического здоровья.
Материалы и методы.
Для решения поставленных задач были обследованы 47 молодых людей (студентов старших курсов медицинского ВУЗа), у которых было выявлено желание обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья (СПЗ). В качестве контрольной группы использованы студенты, у которых данного желания никогда не возникало – в количестве 179 человек. Обе группы были сопоставимы по прочим значимым социально - демографическим показателям. Критерием исключения из исследуемой группы являлся факт обращения к психиатру, психотерапевту или психологу в прошлом.
В качестве диагностического инструмента использовался опросник для выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [7]. Для оценки личностно-психологических показателей в группах использована батарея тестов, содержащая: тест преобладающих механизмов психологических защит (LSI) Плутчека-Келлермана-Конте, а также «Шкала родительских предписаний» [7], широко используемая в рамках Транзакционного анализа.
Для решения поставленной задачи было произведено «фронтальное» сравнение всех изучаемых признаков в подгруппах (суицидологических, личностно - психологических). Статистический анализ и обработку данных проводили посредством параметрических и непараметрических методов математической статистики с использованием критериев Стьюдента, Уилкоксона, χ2, а также χ2 с поправкой Йетса. Выборочные дескриптивные статистики в работе представлены в виде М±m (средней ± стандартное квадратичное отклонение).
Результаты и их обсуждение.
Для начала рассмотрим представленность и «тропность» аутоагрессивных паттернов, их предикторов в изучаемой группе. Значимые отличия отражены в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице, следует, что между изученными группами имеется существенное количество важных отличий. Прежде всего, обращает на себя внимание, что суицидальные идеации в два раза чаще обнаруживались у юношей, имеющих потенциальное желание обращения к СПЗ. Этот факт, уже сам по себе, весьма настораживает в плане выраженной связи изучаемых явлений.
Таблица 1
Сравнение представленности аутоагрессивных паттернов и их предикторов среди юношей, имеющих и не имеющих желание обратиться к специалисту в области психического здоровья (p<0,05)
|
Признак |
Желающие обратиться к СПЗ (n=48) n (%) |
Не желающие обратиться к СПЗ (n=178) n (%) |
Значение критерия χ2 |
Значение df |
р |
Классические суицидальные паттерны
|
Суицидальные мысли |
15 (31,2%) |
25 (14,0%) |
7,683 |
1 |
0,0107 |
Несуицидальные аутоагрессивные паттерны
|
Наличие в анамнезе несчастных случаев |
19 (39,6%) |
40 (22,5%) |
5,738 |
1 |
0,0259 |
|
Наличие обморожений |
8 (16,7%) |
11 (6,2%) |
5,399 |
1 |
0,0411 |
|
Наличие хронических болезней |
33 (68,7%) |
78 (43,8%) |
9,401 |
1 |
0,0042 |
Предикторы аутоагрессивного поведения
|
Частое переживание вины |
18 (37,5%) |
49 (27,5%) |
1,802 |
1 |
0,0006 |
|
Навязчивое чувство стыда |
17 (35,4%) |
23 (12,9%) |
13,134 |
1 |
0,0014 |
|
Депрессивные состояния в анамнезе |
36 (75,0%) |
57 (32,0%) |
28,835 |
1 |
0,0005 |
|
Моменты безысходности |
23 (47,9%) |
39 (21,9%) |
12,844 |
1 |
0,0014 |
|
Наличие физического недостатка |
19 (39,6)% |
30 (16,8%) |
11,502 |
1 |
0,0022 |
|
Стыд своего тела |
32 (66,7%) |
58 (32,6%) |
18,325 |
1 |
0,006 |
|
Наличие комплекса неполноценности |
26 (54,2%) |
30 (16,9%) |
28,239 |
1 |
0,002 |
|
Отсутствие смысла в жизни |
10 (20,8%) |
13 (7,3%) |
7,571 |
1 |
0,0132 |
|
Длительные угрызения совести |
14 (29,2%) |
34 (19,1%) |
2,290 |
1 |
0,0126 |
|
Переедание или отказ от пищи |
25 (52,1%) |
55 (30,9%) |
7,419 |
1 |
0,0107 |
|
Моменты одиночества |
32 (66,7%) |
43 (24,2%) |
41,370 |
1 |
0,0005 |
Но учитывая стиль исследования, можно предположить, что данная находка может являться как причиной, так и следствием изучаемого «желания обращения». В любом случае, выявленный паттерн доказывает серьезность вкладываемого смысла респондентами в ответ на задаваемый вопрос.
Что касается несуицидальных аутоагрессивных паттернов, то в исследуемой группе они также значительно преобладают над таковыми в контрольной группе. Наличие несчастных случаев и частые обморожения частично можно «оправдать» половой принадлежностью исследуемой группы. Но, тем не менее, это демонстрирует нам интенсивность «непрямого» и, зачастую, социально приемлемого пути реализации антивитальных импульсов.
Что касается предикторов аутоагрессивного поведения, то они, как и у лиц женского по- ла [6], «расположились» вполне предсказуемо. Юноши, имеющие желание обратиться к СПЗ, значительно чаще испытывали чувство стыда, вины и безысходности, длительные угрызения совести. Их же характеризует преобладание депрессивных реакций, отсутствие смысла жизни, часто переживаемое чувство одиночества. Что, в совокупности, позволяет говорить о присутствии в группе прогностически неблагоприятных предиспозирующих эмоциональных состояний. Кроме того, значимые отличия обнаруживались и в отношении переживания собственной неполноценности, сомнений в своей привлекательности, что лишь усиливало неблагоприятный эмоциональный фон группы. Все вышеперечисленное указывает на явное сходство исследуемых нами разнополых групп по рассматриваемым признакам и не объясняется «женскими» характерологическими особенностями.
Таблица 2
Профили родительских посланий и механизмов психологических защит у юношей, имеющих и не имеющих желание обратиться к психиатру, психотерапевту или психологу
|
Признак |
Желающие обратиться к СПЗ |
Не желающие обратиться к СПЗ |
P< |
Специфика родительских посланий
|
Не существуй |
17,94±5,84 |
15,39±6,08 |
0,01 |
|
Не вырастай |
18,55±5,78 |
15,72±6,0 |
0,04 |
|
Не будь ребёнком |
21,47±6,7 |
18,48±6,51 |
0,006 |
|
Не будь близок |
19,49±6,78 |
15,92±6,89 |
0,002 |
|
Не делай это |
16,68±7,13 |
13,7±6,5 |
0,007 |
|
Не чувствуй |
25,51±6,33 |
21,3±7,004 |
0,0002 |
|
Не будь нормальным |
17,02±5,89 |
13,6±6,43 |
0,02 |
Преобладающие механизмы психологических защит
|
Отрицание |
5,02±1,9 |
6,01±2,97 |
0,03 |
|
Компенсация |
4,5±1,91 |
3,78±2,16 |
0,0004 |
Данные, касающиеся личностно - психологических характеристик респондентов исследуемой группы, приведены в табл. 2.
При оценке исследуемых по шкале родительских предписаний [6], мы обнаружили весьма специфические профили родительских посланий. Группы достоверно отличались в отношении целого комплекса «проклятий».
Первое послание наиболее токсично в суицидологическом плане. Ребёнок начинает испытывать чувство вины за свое появление, ощущает себя вечным должником и подсознательно ищет наказания [8]. Это может проявляться в склонности к риску, экстремальным видам спорта, тяги к алкоголю и наркотикам. Еще одно «проклятье», обратившее на себя внимание – «Не будь нормальным». Оно может иметь высокую активность, если родителями поощряется неадекватное, ненормальное поведение ребенка. Возможно, именно из-за этой позиции взрослые не придают должного значения малейшим нарушениям в психике ребенка, даже взрослого [9], рассматривая их как «вариант семейной нормы».
Также обращает на себя внимание, что следующие послания идут как бы, вразрез друг с другом. С одной стороны, родители требовали от ребенка некой «взрослости» и пытались внушить, что свои проблемы он должен решать исключительно сам, а с другой стороны, проклятием «Не вырастай», родители пытались всеми силами «приручить к себе свое чадо»: то есть решать все его проблемы и, тем самым, сохраняли в подростке инфантильность, которую можно назвать особо «опасной», когда мы говорим о мужском поле [6]. Подобная сценарная «неразбериха», вполне, может являться основой для выраженного личностного диссонанса, либо создавать ситуацию «двойного зажима».
Что касается других «проклятий», то они тоже весьма специфичны в плоскости рассматриваемой проблемы. Когда человек получает запреты на близость с кем-то (иными словами ему нельзя доверять никому, делиться своими проблемами), то возможность реального обращения к специалисту, которому, безусловно, требуется доверять, весьма затруднительна. Что, возможно, и не позволяет сделать такой необходимый, в ряде случаев, шаг. Послание «Не делай это» логичным образом довершает картину. Возможно, лучшим совокупным девизом исследованной группы является: «Лучше сидеть, терпеть и не высовываться».
Анализируя преобладающие механизмы психологической защиты, мы обнаружили, что у юношей, желающих обратиться за помощью к СПЗ, преобладают такие механизмы, как «Вытеснение» и «Компенсация».
Первый механизм является наиболее универсальным способом избавления от внутреннего конфликта путем активного выключения из сознания неприятной информации. Таким образом, обнаруживаемые нами реминисцен- ции по поводу желания обращения к СПЗ, вероятно, отражают желание «выхода» респондентами за пределы действия защитного механизма, способного решить вытесняемые проблемы, а не прятаться от них.
Относительно второго механизма психологической защиты – «Компенсации», – она является бессознательной, нативно - самостоятельной попыткой преодоления реальных или воображаемых недостатков. Он развивается как самый поздний механизм защиты. В контексте исследуемых респондентов его преобладание в условиях желания обращения без фактического обращения можно трактовать весьма однозначно – как бессознательную попытку выхода из сложившегося «тупика» посредством собственных сил и средств, создавая «хорошую мину при уже плохой игре».
Список литературы Потенциальное желание обращения к специалисту в области психического здоровья у юношей: значение для суицидологической практики
- Ландышев М.А., Петров Д.С. Тенденции психического здоровья населения Рязанской области в период реформ психиатрической службы//Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. -2015. -№ 2. -С. 70-75.
- Демдоуми Н.Ю., Денисов Ю.П. Социальная сеть как аспект суицидальной активности среди детей и молодёжи (на основе анализа социальной сети «Вконтакте»)//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 15, № 3. -С. 37-39.
- Руженкова В.В. Некоторые аспекты стигматизации суицидентов специалистами, участвующими в оказании психиатрической помощи//Тюменский медицинский журнал. -2014. -Том 16, № 1. -С. 17-18.
- Куценко Н.И., Зотов П.Б. Адресность предъявления суицидальных тенденций больными рассеянным склерозом//Медицинская наука и образование Урала. -2008. -№ 6. -С. 67-69.
- Drego P. The cultural parent//Transactional Analysis Journal. -1983. -Vol. 13. -P. 224-227.
- Меринов А.В., Меденцева Т.А., Меринов Н.Л. Потенциальное желание обращения к специалисту в области психического здоровья: значение для суицидологической практики//Суицидология. -2015. -Том 6, № 4 (21). -С. 61-66.
- Меринов А.В. Аутоагрессивное поведение и оценка суицидального риска у больных алкогольной зависимостью и членов их семей: Автореф. дис.. д-ра. мед. наук: 14.01.27; 14.01.06. -М., 2012. -48 с.
- Лукашук А.В., Сомкина О.Ю., Байкова М.А., Филиппова М.Д. Значение и место сценарных посланий в реализации суицидального поведения//Тюменский медицинский журнал. -2016. -Том 18, № 1. -С. 3-11.
- Stewart I., Joines V. TA Today. A new introduction to Transactional. -Nottingham; Chapel Hill: Lifespace Publ., 1987. -342 p.