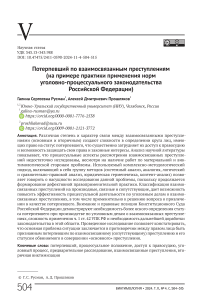Потерпевший по взаимосвязанным преступлениям (на примере практики применения норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации)
Автор: Русман Г.С., Прошляков А.Д.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 4 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Различная степень и характер связи между взаимосвязанными преступлениями (основным и вторичным) создают сложности в определении круга лиц, имеющих право на статус потерпевшего, что существенно затрудняет их доступ к правосудию и возможность защищать свои права и законные интересы. Анализ научной литературы показывает, что процессуальные аспекты рассмотрения взаимосвязанных преступлений недостаточно исследованы, несмотря на наличие работ по материальной и виктимологической сторонам проблемы. Используемый комплексно-методологический подход, включающий в себя группу методов (системный анализ, аналогия, логический и сравнительно-правовой анализ, юридическая герменевтика, контент-анализ) позволяет говорить о насущности исследования данной проблемы, поскольку продолжается формирование дефективной правоприменительной практики. Классификация взаимосвязанных преступлений на производные, связные и сопутствующие, дает возможность повысить эффективность процессуальной деятельности по уголовным делам о взаимосвязанных преступлениях, в том числе применительно к решению вопроса о привлечении в качестве потерпевшего. Внимание и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации демонстрируют необходимость более ясного определения статуса потерпевшего при производстве по уголовным делам о взаимосвязанных преступлениях, сложность применения ч. 1 ст. 42 УПК РФ и необходимость дальнейшей доработки законодательства в этой области. Проведенное исследование позволяет констатировать, что основная проблема ситуации заключается в противоречии между правом лица быть признанным потерпевшим по взаимосвязанному (сопутствующему) преступлению и его статусом обвиняемого в совершении «основного» преступления.
Потерпевший, процессуальное положение, доступ к правосудию, уголовный процесс, предварительное расследование, взаимосвязанные преступления, вторичная виктимизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14132336
IDR: 14132336 | УДК: 343.13+343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-4-504-515
Текст научной статьи Потерпевший по взаимосвязанным преступлениям (на примере практики применения норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации)
При разрешении вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, соединении, выделении, прекращении уголовного дела и др. необходимо обращать внимание на наличие или отсутствие взаимосвязи между уголовно-правовыми деяниями, поскольку помимо квалификации содеянного, данный аспект влияет на порядок судопроизводства по соответствующим уголовным делам, определение процессуального статуса участвующих в деле лиц, в частности потерпевшего.
Развивая конституционное положение об охране прав потерпевших и обеспечении их доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ1), законодатель считает первым назначением уголовного судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ2), то есть в рамках законодательной конструкции назначения уголовного судопроизводства, обращается внимание на безусловный приоритет защиты интересов личности в сфере уголовного судопроизводства [6, с. 78]. В контексте заявленной темы статьи справедливым видится утверждение, что «целью уголовного процесса является защита общества и человека от преступных посягательств в результате: справедливого наказания виновного или применения к нему иных мер уголовно-правового характера; ненаказания невиновного и неприменения к нему иных мер уголовно-правового характера с реабилитацией каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию» [1, с. 617].
Законодателем определено, что потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). Однако, практика применения указанного законодательного положения показала, что по отдельным категориям уголовных дел уже само признание за таким лицом статуса и прав потерпевшего вызывает серьезные осложнения, приводя к тому, что доступ этих лиц к правосудию фактически блокируется на уровне правоприменительных решений.
Речь идет о взаимосвязанных уголовно-правовых деяниях (основного и вторичного), в контексте которых потерпевшим является лицо, которому причинен вред в результате одного или нескольких преступлений, рассматриваемых в рамках одного уголовного дела из-за единства или взаимозависимости элементов составов этих преступлений.
Обзор литературы показал, что особенности судопроизводства по взаимосвязанным уголовным делам самостоятельно исследовались учеными процессуалистами лишь в рамках конкретных случаев, отдельных аспектов и фрагментарно. Однако нельзя не отметить, что российские и зарубежные ученые неоднократно обращались к рассматриваемой тематике с материальной и виктимологической сторон, в особенности по конкретным видам взаимосвязанных преступлений.
Производным преступлениям как виду взаимосвязанных уделено пристальное внимание российскими [5, с. 47–57; 8, с. 235–240] и зарубежными [9, с. 580; 11, с. 63–266; 16] исследователями. В то же время данные исследования, раскрывая специфику материального характера, не затрагивают процедурные особенности производства по рассматриваемой категории дел, но позволяют показать юридическую взаимосвязь деяний, что обуславливается нюансами конструкции уголовного закона, выявить тесную связь элементов составов преступлений, что имеет высокую процессуальную значимость при вынесении промежуточных и итоговых решений по уголовному делу.
Вопрос о том являются несовершеннолетние, вовлеченные в совершение преступлений в случаях совершения в отношении них преступлений ранее преступниками или потерпевшими (с точки зрения викти-мологии) в том числе с позиции реляционных аспектов выявления признаков потерпевшего [13, с. 157–174] рассматривается и в зарубежных источниках [15, с. 103–124]. Пристальное внимание уделяется психологическому состоянию лица, пострадавшего от преступленного поведения [10, с. 33–60; 12, с. 77–106; 14, c. 113–138]. Это значимый аспект, поскольку по отношению к взаимосвязанному преступному деянию, одним из условий признания лица потерпевшим является причинение ему вреда, при этом вред зачастую выражается только в моральных страданиях.
Сразу после принятия действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были исследованы теоретические положения уголовно-процессуальной классификации взаимосвязанных преступлений, определены и систематизированы практические аспекты применения данной классификации для оптимизации расследования, рассмотрения и разрешения по существу уголовных дел по взаимосвязанным деяниям [7, с. 21].
К настоящему времени в уголовно-процессуальное законодательство внесено большое количество изменений и дополнений, что привело к трансформации подходов правоприменителя к отдельным процедурным вопросам. Следовательно, научная необходимость обращения к вопросу о привлечении в качестве потерпевшего по взаимосвязанным преступлениям обусловлена сложностью определения процессуального статуса последнего в ситуациях нахождения преступных деяний в сложной юридической корреляции. Различная степень и характер этой связи (основные и вторичные преступления, различающиеся по тяжести последствий и санкциям), требуют анализа с целью выработки, в последующем, условий и механизмов привлечения лиц, которым взаимосвязанным (вторичным) преступлением причинен вред, в качестве потерпевших и защиты их прав.
Материал и методы
Объектом исследования выступают уголовно-процессуальные отношения, возникающие в связи с причинением вреда лицу взаимосвязанным с основным преступлением, а также возможность и условия привлечения лица в качестве потерпевшего в подобных ситуациях.
Предметом исследования являются юридические категории, принципы и правовые нормы, регламентирующие возможность привлечения лица в качестве потерпевшего при совершении взаимосвязанных преступлений, его правовой статус, а также правовые последствия признания лица потерпевшим по рассматриваемым уголовно-правовым деликтам, а также выявление проблем и противоречий в правоприменительной практике.
Исследование теоретических позиций и нормативного закрепления возможности привлечения лица в качестве потерпевшего по взаимосвязанным (производным, связанным и сопутствующим) преступлениям, стало допустимым посредством применения комплекса аналитических методов. Потенциал системного подхода позволил выявить взаимную обусловленность основного и взаимосвязанного преступления, влияния такой связи на процессуальный порядок производства по уголовному делу. С целью определения процессуальной возможности привлечения лица в качестве потерпевшего по взаимосвязанному преступлению были использованы методы аналогии, логический и сравнительно-правовой. Метод юридической герменевтики способствовал познанию юридических явлений, уяснению смысла, заложенного законодателем в текст уголовного и уголовно-процессуального закона. Нормативная, научная и правотолковательная информация из открытых источников исследована посредством контент-анализа, что дало возможность определить актуальность проблемы не только в России, но и в зарубежных странах.
Результаты исследования
Категория «взаимосвязанные преступления» не является ординарной и не используется законодателем, однако очень точно подчеркивает процессуальные аспекты, выводя на первый план влияние связи преступлений на ход уголовного судопроизводства, когда необходимо объединение или, напротив, выделение уголовного дела для более эффективного и полного его расследования и рассмотрения.
Г. А. Алексеева и А. Д. Прошляков предлагают условно классифицировать взаимосвязанные уголовно-правовые деликты, связанные с «основным» преступлением на «производные, связанные и сопутствующие» [2, с. 32–33]. Обозначенная классификация является весьма значимой при установлении обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу и принятия других процессуальных решений, связанных с разрешением вопроса о соединении уголовных дел или выделении дела, порядком расследования, подследственностью и подсудностью, возмещением ущерба и др.
Представляется, что производные преступления тесно связаны с основным и совершаются для его подготовки, реализации или сокрытия последствий. К ним можно отнести соучастие, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), сбыт краденого имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) и др.
Связные преступления являют собой неизбежное следствие основного деяния и характеризуются устойчивой взаимосвязью (например, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), дача и получение взятки (ст. 290–291 УК РФ), публичное оправдание терроризма ст. 205.2 УК РФ и др.).
Сопутствующие преступления совершаются в период расследования или рассмотрения основного преступления с целью воспрепятствования правосудию (например, принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ); фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ и др.).
С точки зрения возможного появления процессуальной фигуры потерпевшего как лица, которому преступлением причинен определенный вред, интересны связанные и сопутствующие преступления.
Одним из примеров взаимосвязанного, а именно сопутствующего, преступления является ст. 303 УК РФ1. Как справедливо отмечает А. В. Бриллиантов общественная опасность данного преступления «неразрывно связана с искажением сведений, имеющих значение для принятия правовых решений. Во всех иных случаях внесение в протокол данных, не имеющих существенного значения и не влияющих на правильность принятия указанных решений в силу своей малозначительности, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ УК РФ [4, с. 33].
Объективная сторона обозначенного преступления состоит, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, «в умышленном приобщении... к уголовному делу в качестве доказательств заведомо поддельных предметов и документов; внесении ими в процессуальные акты, являющиеся источниками доказательств... заведомо ложных сведений; подделке ранее приобщенных к делу вещественных доказательств и доку-ментов»2. При этом субъектом совершения преступления является лицо, уполномоченное осуществлять уголовно-процессуальную деятельность по конкретному уголовному делу, что означает, что негативные последствия таких преступных действий отражаются не только на системе правосудия, но и на лице, в отношении которого производилось расследование по основному уголовному делу [3, с. 36].
Однако следственная практика в большинстве своем идет по пути привлечения лиц, которым взаимосвязанным (вторичным) преступлением причинен вред, в качестве свидетелей. Как следствие, такие субъекты не могут использовать нормативный инструментарий, входящий в процессуальное положение потерпевшего и тем самым защищать свои нарушенные права и законные интересы.
Отнюдь не случайно, что к проблеме доступа потерпевших к правосудию и их реальному участию в уголовном судопроизводстве в последние годы неоднократно обращался Конституционный Суд РФ. Так, в постановлениях, посвященных данному вопросу, Конституционный Суд РФ признал положения ч. 1 ст. 42 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ, но в каждом случае выявил конституционно-правовой смысл ее предписаний применительно к некоторым нормам УК РФ, исключив любое иное их истолкование1.
В постановлении от 12.05.2022 № 18-П подчеркивается, что ч. 1 ст. 42 УПК РФ предполагает возможность признать потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении следователя (дознавателя) в связи с фальсификацией доказательств по расследованному им уголовному делу, лицо, осужденное по этому уголовному делу, в том числе и в случае, когда постановленный в отношении осужденного обвинительный приговор не отменен (не изменен) (п. 1 резолютивной части постановления)2.
В постановлении от 25.05.2023 № 26-П обращено внимание на то, что ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 1 ст. 42 УПК РФ предполагают признание лица потерпевшим по возбужденному уголовному делу о его вовлечении в период несовершеннолетия в совершение преступления независимо от способа такого вовлечения (п. 1 резолютивной части постановления)3.
В постановлении от 01.10.2024 № 42-П установлено, что ч. 1 ст. 42 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 290 УК РФ предполагает признание лица, которое отказалось от предложения о даче взятки, сообщило о данном предложении в правоохранительные органы и содействовало изобличению виновных, потерпевшим по уголовному делу о получении взятки (п. 1 резолютивной части постановления)4.
Обозначенные постановления Конституционного Суда РФ объединяет, как представляется, еще одна общая черта: Конституционный Суд РФ выявлял конституционно-правовой смысл предписаний ч. 1 ст. 42 УПК РФ применительно к тем нормам Особенной части УК РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за вторичные преступления статьями 150, 290, 303. Вторичность этих преступлений проявляется в том, что они так или иначе (хотя и в разной степени) связаны с другим преступным деянием.
Так, фальсификация доказательств и результатов ОРД ч. 2–4 ст. 303 УК РФ всегда связана с расследованием уголовного дела об ином преступлении, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) находится «в связи» с тем преступлением, в которое несовершеннолетний вовлечен, получение взятки (ст. 290 УК РФ) логично предполагает и дачу взятки (ст. 291 УК РФ).
Такая взаимосвязь двух преступлений привела к тому, что Конституционному Суду РФ пришлось проанализировать и принятые процессуальные решения по делу о другом преступном деянии, которые повлияли на итоговые решения Конституционного Суда РФ, изложенные в резолютивных частях упомянутых постановлений.
В Постановлении от 12.05.2022 № 18-П указано следующее. Приговором Озерского городского суда Московской области от 19.10.2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 29.03.2018, Н. осужден по п. б ч. 3 ст. 228 УК РФ и отбывал наказание на момент обращения в Конституционный Суд РФ. По заявлению Н. 13.01.2020 возбуждено уголовного дело в отношении следователя и дознавателя за фальсификацию доказательств по этому делу. Н. допрошен в качестве свидетеля, в признании его потерпевшим было отказано, поскольку приговор в его отношении вступил в законную силу и не отменен. В дальнейшем следователь и дознаватель были осуждены за фальсификацию доказательств, судебные решения по делу Н. отменены, производство по его делу возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.
Мотивируя свое решение, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что фальсификация доказательств не может не причинить вред правам личности, а лицо отбывающее наказание, испытывает как физические, так и нравственные страдания и тем самым является потерпевшим по делу.
Однако пересмотр дела Н. не может привести к восстановлению его прав, поэтому Конституционный Суд РФ признал за ним право на неприменение в отношении него компенсаторных механизмов, чьи форма и размер определяются районным судом1.
Иначе выглядит ситуация, связанная с обращением в Конституционный Суд РФ граждан З. и Ф.
02.02.2020 в отношении несовершеннолетней З. возбуждено уголовное дело по признакам покушения на преступление, предусмотренное п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. За данное преступление 29.07.2020 З. была осуждена.
Параллельно с делом З. расследовалось дело гр. Б., который, как предполагалось, вовлек ее в совершение преступления.
Ф. — законный представитель З. — заявила ходатайство о признании ее дочери потерпевшей по этому делу, но в его удовлетворении было отказано, в том числе и при рассмотрении дела Б. в суде.
Приговором от 14.07.2021 Б. был осужден за покушение на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и оправдан по ч. 4 ст. 150 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 1 ст. 42 УПК РФ предполагают признание лица потерпевшим по делу о его вовлечении в период несовершеннолетия в совершение преступления, так как причиняют вред нормальному физическому, психическому и нравственному развитию и воспитанию несовершеннолетней личности, независимо от способа такого вовлечения. Однако Б. был оправдан по ч. 4 ст. 150 УК РФ, поэтому Конституционный Суд РФ предложил разрешить вопрос о пересмотре этого приговора в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (п. 4 резолютивной части Постановления от 25.05.2023 г. № 26-П)2. Принятое Конституционным Судом РФ постановление требует дополнительных комментариев.
В соответствии с ч. 6 ст. 151 УПК РФ уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 150 УК РФ, расследуется следователем того органа, к чьей подследственности относится преступление в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело. При этом уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство, если это возможно (ст. 422 УПК РФ). В деле гражданки З. такое выделение оказалось вполне возможным и сначала было рассмотрено ее уголовное дело, а затем дело соучастника, вовлекшего несовершеннолетнюю в совершение преступления.
Совершенно иначе выглядела бы другая ситуация, которая часто встречается на практике, когда дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и дело о преступлении, в которое тот был вовлечен, рассматривается в суде одновременно в отношении всех соучастников. Этот вариант более приемлем с точки зрения нормы о преюдиции (ст. 90 УПК РФ)1, но признание несовершеннолетнего потерпевшим по ст. 150 УК РФ приведет к тому, что в одном лице буду совмещены два субъекта с противоречивыми процессуальными функциями, а несовершеннолетний потерпевший вынужден будет давать правдивые показания о собственных преступных действиях в которые он был вовлечен, конечно, с учетом ст. 51 Конституции РФ.
Поэтому реализация на практике постановления от 25.05.2023 № 26-П приведет, скорее всего, к определенному алгоритму процессуальных действий при совершении преступления в соучастии с несовершеннолетним:
-
— уголовное дело в отношении несовершеннолетнего при наличии возможности выделяется в отдельное производство;
-
— дело в отношении несовершеннолетнего рассматривается в суде раньше, чем дело взрослых соучастников;
-
— уголовное дело в отношении взрослых соучастников рассматривается позднее, в том числе и с обвинением по ст. 150 УК РФ.
Именно такая последовательность процессуальных действий позволит обеспечить несовершеннолетнему права потерпевшего по ст. 150 УК РФ и не войти в противоречие со ст. 10 УПК РФ, которой закреплен принцип неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве.
Следует обратить внимание и на то что придание вовлеченному в совершение преступления несовершеннолетнему статуса потерпевшего при отсутствии квалифицирующих признаков ст. 150 УК РФ предполагает и возможность примирения с взрослым соучастником (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), так как ч. 1 ст. 150 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, то есть относится к преступлениям средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ).
Проще с процессуальной точки зрения оказался прецедент заявителя гражданина Т., который участвовал в качестве свидетеля в судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении ряда лиц включая Т., обвинявшегося в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как установлено судом, Т., занимая должность начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков, через посредников предложил Т. и его брату помощь с целью избежания уголовной ответственности в обмен на взятку в 2,5 млн рублей, однако заявитель сообщил об этом в правоохранительные органы и добровольно принял участие в проведении изобличающего оперативно-розыскного мероприятия — «оперативный эксперимент». При этом судом апелляционной инстанции отклонены доводы Т. о необходимости признания его по данному делу потерпевшим.
К иному выводу пришел Конституционный Суд РФ, указав, что склонение к даче взятки в любой форме должностным лицом, призванным соблюдать и защищать права и свободы человека, являются недопустимой, противоправной формой поведения, расценивается физическим лицом в качестве неприемлемого и (или) оскорбительного для себя и не может рассматриваться как не причиняющее моральный вред и нравственные страдания. В пункте 3 резолютивной части постановления от 01.10.2024 № 42-П Конституционный Суд РФ предписал пересмотреть правоприменительные решения по делу с участием Т. для обеспечения его прав как потерпевшего1.
Разумеется, если бы под влиянием вымогательства предмет взятки был бы все же передан данному лицу, то взяткодатель был бы освобожден от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 УК РФ, но о признании его потерпевшим по ст. 290 УК РФ не могло быть и речи, так как лицо, совершившее преступление (даже и освобожденное от уголовной ответственности) ни в коем случае не может приобретать статус потерпевшего.
Попутно стоит затронуть еще один вопрос, сходный с обозначенной Конституционным Судом РФ проблемой: распространяются ли бесспорные права потерпевшего и на преступление, которое можно назвать производным от основного деяния. В качестве примера можно сослаться на ст. 316 УК РФ — укрывательство преступлений. Укрывательство всегда совершается после основного преступления и очень тесно связано с ним. По делам об укрывательстве установлена подследственность по связи уголовных дел (ч. 6 ст. 151 УПК РФ). В судебной практике высказывалось мнение, что освобождение от уголовной ответственности за укрывательство возможно лишь при наличии обвинительного приговора в отношении лица, совершившего укрываемое преступление2. Тогда возникают естественные и закономерные вопросы о распространении прав потерпевшего по укрываемому преступлению на укрывательство этого деяния и, соответственно:
— допустимо ли примирение сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), поскольку укрывательство— это преступление небольшой тяжести;
— может ли потерпевший приносить жалобы на мягкость наказания укрывателю преступления или предъявлять к нему гражданский иск?
Было бы целесообразно ответить на эти вопросы на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Выводы и заключение
Проведенное исследование позволяет заключить, что неоднозначность определения статуса потерпевшего в ходе производства по уголовным делам по взаимосвязанным (сопутствующим) преступлениям негативно сказывается на правоприменительной практике и приводит к нарушению права лица на доступ к правосудию.
Вред, причиненный потерпевшему в результате исследуемой категории преступлений, зачастую выражается в моральных страданиях, что не всегда рассматривается как условие признания лица потерпевшим.
Конституционный Суд РФ в своих постановлениях обозначил проблему статуса потерпевшего по делам о некоторых преступлениях, которые являются своеобразными «спутниками» другого деяния, предусмотренного уголовным законом. Есть все основания полагать, что признание лица потерпевшим по делам о производных, связанных и сопутствующих преступлениях нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении и практической разработке.
в отношении лица, совершившего укрываемое преступление : определение Военной коллегии Верховного Суда РФ по делу Клепалова от 22 февраля 2000 г. № 6-0165/97 // СПС «Гарант». URL: ru/1352204/?ysclid=m4o0wcqyfj769862988 (дата обращения: 10.11.2024).
Список литературы Потерпевший по взаимосвязанным преступлениям (на примере практики применения норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации)
- Азаренок Н. В. Методологические основы определения цели отечественного уголовного процесса // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 5. С. 611-620. DOI: https://doi. org/10.17150/2500-4255.2022.16(5).611-620
- Алексеева Г.А. , Прошляков А. Д. Мелкое хищение чужого имущества // II Юридический вестник. Екатеринбург. 2000. № 1-2. С. 32-33.
- Борков В. Н. Конституционно-правовой смысл нормы о фальсификации доказательств по уголовному делу // Законность. 2024. № 4 (1074). С. 35-38.
- Бриллиантов А.В. Некоторые аспекты оценки степени общественной опасности фальсификации доказательств // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2007. № 2. С. 30-33.
- Ковтун Н.А. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от института соучастия // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2020. № 6-1. С. 47-51.
- Смирнова И.Г. Уголовно-процессуальная стратегия: конфликт целеполагания // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 28. С. 76-82.
- Хорищенко Ю.Г. Особенности уголовного судопроизводства по делам о взаимосвязанных преступлениях: дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 197 с.
- Шеслер А. В. Прикосновенность к преступлению как предмет уголовно-правового исследования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 1 (85). С. 235-240. DOI: https://doi. org/10.35750/2071-8284-2020-1-235-240
- Feller S. Z. The Provisions Relating to the Typical Form of an Offence and their Application to its Derivative Forms of Criminal Conduct // Isr. L. Rev. 1967. Vol. 2. P. 580-589.
- Guillem C.M.La victimodogmática ante la víctima vulnerable // Revista de Victimología / Journal of Victimology. 2024. №. 18. P. 33-60. DOI: https://doi.org/10.12827/RVJV.18.02
- Hallevy G. The matrix of derivative criminal liability // Springer Science & Business Media, 2012. 308 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-28105-1
- Ibáñez J.G. Justicia y política de la compasión en relación con las víctimas // Revista de Victimología. 2018. №. 7. P. 77-106. DOI: https://doi.org/10,12827/RVJV. 7.03
- Marshall H.Victim as a relative status // Theoretical Criminology.2024.Vol. 28, no. 2.P. 157-174. DOI: https://doi. org/10.1177/13624806231186393
- Molina E.F., Prado C.M., Jiménez M.J.B.El paso de las víctimas por el proceso penal // Revista de Victimología / Journal of Victimology. 2022. №. 13. P. 113-138. DOI: https://doi. org/10.12827/RVJV.13.05
- Suárez-Soto E.et al.Víctimas o Delincuentes?: Jóvenes implicados en los sistemas de protección y justiciar juvenil en Cataluña: Un estudio exploratorio // Revista de Victimología / Journal of Victimology. 2018. №. 8. P. 103-124. DOI: https://doi. org/10,12827/RVJV. 8. 04
- Wang B. Participation in Crimes: An End to Derivative Complicity Liability? // Participation in Crimes: An End to Derivative Complicity Liability. 2018. SSRN: https://ssrn. com/abstract=3452492