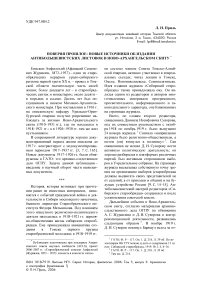Поверяя прошлое: новые источники об издании антибольшевистских листовок в Ново-Архангельском скиту
Автор: Приль Л.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Документальные страницы
Статья в выпуске: 3-1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736764
IDR: 14736764 | УДК: 947.084.2
Текст статьи Поверяя прошлое: новые источники об издании антибольшевистских листовок в Ново-Архангельском скиту
ПОВЕРЯЯ ПРОШЛОЕ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБ ИЗДАНИИ
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ ЛИСТОВОК В НОВО-АРХАНГЕЛЬСКОМ СКИТУ
Епископ Амфилохий (Афанасий Семенович Журавлев, 1873–1937) – один из старообрядческих иерархов урало-сибирского региона первой трети ХХ в. – провел в Томской области значительную часть своей жизни; более двадцати лет – в старообрядческих скитах и монастырях; около десяти – в тюрьмах и ссылке. Десять лет был послушником и иноком Михаило-Архангель-ского монастыря. При поставлении в 1916 г. на епископскую кафедру Уральско-Оренбургской епархии получил разрешение наблюдать за жизнью Ново-Архангельского скита (1910–1931 гг.), где он находился в 1918–1921 гг.; а в 1926–1930 гг. там же жил пустынником.
В современной литературе хорошо документированный период жизни епископа до 1917 г. контрастирует с недокументированным периодом 1917–1937 гг. [3; 7. С. 165]. Новые документы 1917–1926 гг. были обнаружены в ГАТО: это архивно-следственное дело ОГПУ. Задача данной публикации – введение в научный оборот части выявленных документов.
***
История, которая возникает при прочтении ранее не известных материалов, начинается с событий гражданской войны и деятельности в Сибири московского начетчика, бывшего директора Старообрядческого института Федора Мельникова. Под влиянием этого известного религиозно-политического деятеля находилась в 1918–1921 гг. церковно-общественная жизнь сибирских старообрядцев. Ему принадлежала инициатива создания в Томске первого кружка старообрядческой молодежи; в 1918–1919 гг.
*
Публикация подготовлена при поддержке Американского совета научных сообществ (ACLS), проект 2006–2007 гг. «Старообрядческий епископ Амфилохий (Журавлев, 1873 – 1937): личность в контексте эпохи».
он состоял членом Совета Томско-Алтайской епархии, активно участвовал в епархиальных съездах; читал лекции в Томске, Омске, Новониколаевске, Семипалатинске. Идея издания журнала «Сибирский старообрядец» также принадлежала ему. Он являлся одним из редакторов и автором многочисленных материалов программного, просветительного, информационного и законодательного характера, опубликованных на страницах журнала.
Всего, по словам второго редактора, священника Даниила Иосифовича Суворова, под их совместным руководством с октября 1918 по ноябрь 1919 г. было выпущено 24 номера журнала 1 Сначала «направление журнала было религиозно-общественным, а потом (он) втянулся в политику» 2 . Сан священника не мешал Д. И. Суворову вести активную политическую деятельность; он хорошо разбирался в платформах различных партий, был активным сторонником выборов в Учредительное собрание. На страницах журнала высказывал собственную точку зрения на организацию выборов (старообрядцы должны выдвигать своих представителей не от селений, а от приходов и общин) и на будущее устройство России [9. С. 14–15]. Антибольшевистский настрой редакторов «Сибирского старообрядца» сохранился и после установления советской власти.
Дальнейшие события в Ново-Архангельском скиту, согласно материалам архивноследственного дела ОГПУ по обвинению А. С. Журавлева и Д. И. Суворова в контрреволюционной деятельности, развивались следующим образом 3 . В ноябре 1919 г. Д. И. Суворов покинул Барнаул вслед за от-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1)
ступающими колчаковскими войсками и позднее, вплоть до ареста в декабре 1921 г., жил в Новониколаевске и Томске по поддельным документам. В начале 1921 г. он признался Амфилохию, что опасается ареста, и тот предложил ему уехать в НовоАрхангельский скит. Со второй половины декабря 1920 г. и Ф. Е. Мельников, также опасавшийся преследований, жил, с разрешения епископа Амфилохия, в НовоАрхангельском скиту.
Жизненная позиция обоих редакторов журнала – Ф. Е. Мельникова и Д. И. Суворова, подталкивала их к продолжению идейной борьбы с советской властью. Первая прокламация, изготовленная ими в Ново-Архангельском скиту, была напечатана на машинке. Она имела обращение: «К гражданам России. Призыв к покаянию». Эта прокламация в деле не сохранилась. Амфи-лохий дал ей такую характеристику: «нравственного содержания, тихого тона», и признал, что она была написана с его «полного изволения» 4 . В дальнейшем Д. И. Суворов уговорил Ф. Е. Мельникова продолжить работу по изготовлению листовок, используя привезенный им из Барнаула типографский шрифт. И хотя, по признанию Д. И. Суворова, Амфилохий был против политических листовок, он не смог остановить двух единомышленников, у которых для выпуска листовок было все необходимое – желание, темперамент, опыт совместной деятельности, родство убеждений, публицистический дар, приспособления для печати и бумага.
Автором текстов был Ф. Е. Мельников; печатал («каточком на рамке») Д. И. Суворов 5 . По мнению екатеринбургских исследователей, творчество Ф. Е. Мельникова отличают такие черты, как «политизированность» и «литературность» [7. С. 161]. Это характерно и для текстов листовок. Всего было выпущено девять прокламаций тиражом от 60 до 100 экземпляров каждая: «Самодержавным комиссарам», «От социализма к капитализму», «Берегись, опять обманут», «Без аннексии и контрибуции», «Выпейте горькую чашу до дна!», «Товарищи красноармейцы!», «Товарищи рабочие!», «Братья крестьяне!», «Да здравствует иностранный капитал!», а также брошюра «Кто дурак, верующий или неверующий?». Все тексты, кроме брошюры, написаны от имени несуществующего «Агитационного отдела
Сибирской боевой организации»: это должно было «придать им больший вес, значение и повлиять на читателей таковых» 6 .
Братия Ново-Архангельского скита не поддерживала издание листовок. Священник Иоанн (Юрков) и инок Нифонт (Блинов) вообще были против их изготовления, считая, что «это не наше дело». Осенью 1923 г. житель скита А. И. Озеров пояснил милиционерам: «Наши отцы вроде бы (тогда) сказали, что если будете за политику, то вы-дворяйтесь» 7 . Изначально отрицательно отнесся к идее издания антибольшевистских листовок епископ Тихон, разрешивший Ф. Е. Мельникову писание трудов по истории старообрядчества 8 .
Амфилохий занял компромиссную позицию, он не поддерживал, но и не противодействовал печатанию листовок. Неоднозначность его позиции состояла в том, что он в Уральске в момент установления советской власти, написал «контрреволюционную» брошюру «Архипастырское обращение к пасомым» 9 . В Ново-Архангельске в 1921 г. он уже считал, что политическая борьба не может принести пользы: «Я говорил им, что не надо, указывал, что даже если весь Томск восстанет, и то толку не будет» 10 . Тем не менее черновик одной листовки («Самодержавным комиссарам») подготовил он сам. В дальнейшем ее существенно отредактировал Ф. Е. Мельников, или, как выразился Амфилохий, «перевел по-своему» 11 . С. Г. Вургафт и И. А. Ушаков в статье о журнале «Сибирский старообрядец» пишут, что «к 1921 г. типографское оборудование журнала по инициативе епископа Амфилохия было вывезено в НовоАрхангельский скит в томской тайге, где печатались антисоветские листовки» [3]. Это не совсем так. Две барнаульские типографии, в которых печатался журнал, не принадлежали епархии. Первые номера журнала выходили в типографии «Алтайское печатное дело» в Барнауле», а с № 6 по № 16 – в типографии «Народная свобода». В № 6 подробно объясняется, что причина смены – забастовка рабочих типографии «Алтайское печатное дело» в Барнауле» [8. С. 2].
С. Г. Вургафт и И. А. Ушаков приводят сведения А. Е. Катунского об издании двух номеров журнала «Сибирский старообрядец» (№ 3 и № 11 за 1919 г.) в Томске. Однако обращение к этим номерам не подтверждает это. А. Е. Катунский в своей диссертации, а затем и в книге не утверждает и не обосновывает вывод о том, что журнал печатали в Томске. Цитируя материалы из этих номеров, он в подстрочнике просто указывает в выходных данных г. Томск [6. С. 59]. Однако ни на первой странице журнала, где находятся выходные данные, ни на последней, где указана типография, о Томске нет речи. Возможно, путаница возникла из-за того, что на последних страницах журнала сохранились почтовые наклей- ки с машинописным адресом подписчика 12
.
Таким образом, утверждение о том, что часть номеров журнала «Сибирский старообрядец» выходила в Томске, ничем не подтверждается.
А в 1921 г. печатание листовок действительно осуществлялось в келье Амфилохия близ Ново-Архангельского скита. Выглядело издательское оборудование просто: «Типография – шрифт, штамп для крестов, два деревянных валика, и др(угие) мелкие кустарные приспособления…» 13 . По словам Д. И. Суворова, шрифт и переплетный инструмент он купил еще в 1907 г. в Шадринске, когда обучался переплетному ремеслу 14 . И осенью 1920 г., взяв недельный отпуск на работе, съездил в Барнаул за типографским шрифтом, хранившимся в земле на огороде 15
его дома
.
Амфилохий в ходе следствия старался подчеркнуть, что листовки печатались не в скиту, а в его келье 16 . Такие напоминания связаны, вероятно, с опасением, что в пособничестве контрреволюции могли обвинить Ново-Архангельский скит и его насельников, что грозило репрессиями против старообрядцев.
Готовил к распространению листовки Д. И. Суворов. В деле сохранились изъятые конверты, где получателями значатся как старообрядцы 17 , так и представители советской власти: редактор иркутской газеты
«Красный стрелок», Омская и Бийская ЧК, председатели Омского совнархоза и Иркутского губисполкома; Л. Д. Троцкий 18 . Всего в почтовые ящики было опущено от 30 до 60 конвертов. Из них в деле находится 29 изъятых. Часть тиража листовок 1921 г. Амфилохий отвез в Томск Тихону, но из-за ареста тот ничего не успел распространить, а возможно, и не собирался это делать из-за отрицательного отношения к идее изготовления листовок.
Почему был арестован епископ Тихон и почему его быстро и без последствий освободили? На наш взгляд, причина ареста была связана с тем, что сброшенные в почтовый ящик конверты четко локализовали местонахождение действующих лиц. Поскольку выявленная при просмотре писем дерзкая корреспонденция тяготела к «старообрядческой части» города, то и был арестован старообрядческий епископ Тихон. Пастырь отвечает за свою паству. Но тексты листовок явных улик против старообрядцев не имели 19 . И епископ Тихон был отпущен.
Узнав об аресте, Д. И. Суворов отправился в Томск, чтобы признаться в содеянном и взять вину на себя. К этому времени владыку отпустили, и Даниил Иосифович вернулся в скит, не обнаруживая себя 20 .
После ареста Тихона изготовление и распространение листовок полностью прекратили. Других репрессий со стороны власти весной 1921 г. не последовало. Этой же весной скит покинул Амфилохий; в конце сентября – Д. И. Суворов, и несколько позже – Ф. Е. Мельников. Малозначительный эпизод с изготовлением листовок, основная часть тиража которых осталась в скиту, возможно, так и был бы забыт, но в декабре 1921 г. арестовали Д. И. Суворова. Через полгода, 13 июня 1922 г. в Оренбурге был арестован Амфилохий и затем доставлен в Томск.
Осенью 1922 г., когда Амфилохий и Д. И. Суворов находились под следствием в томской тюрьме, пришлось, чтобы отвести удар от церкви, подтвердить лойяльное отношение к советской власти. А. Долотов писал, что «Томский епископ Тихон, Амфи-лохий и Суворов выпустили к старообрядческому населению воззвание с призывом
«о защите революции», «об отказе от политики и о лояльном отношении к советской власти» [5. С. 68]. Об обращении двух епископов к пастве в конце 1922 г. упоминается в старообрядческом сборнике материалов «Во время о но», приложении к журналу «Церковь» [2. С. 135].
В архивно-следственном деле сохранилась машинописная копия аналогичного документа с призывом лояльного отношения к советской власти. Его название – «Архипастырское послание», текст написан от имени епископов Тихона и Амфилохия и священника Д. Суворова. Подлинник «Архипастырского послания» пока не выявлен. А копия, заверенная делопроизводителем ГПУ, содержит грубейшие, с точки зрения старообрядцев, ошибки («Иисус» вместо «Исус», имя Матфея напечатано с маленькой буквы и др.).
Установить дату и авторство «Архипастырского послания» можно по документам дела. До октября 1922 г. Амфилохий находился в тюремной больнице 21 ; а во второй половине ноября обвиняемых Амфилохия и Д. И. Суворова отправили в Москву. О том, что «Архипастырское послание» было создано в октябре 1922 г., а инициатором его создания являлся Д. Суворов, прямо говорится в обзоре событий по Томской губернии за октябрь 1922 г., сделанном томским ОГПУ: «Под влиянием Суворова еп(ископ) Тихон Томско-Алтайский и Минусинский совместно с еп(ископом) Амфилохием Уральско-Оренбургским выпустили воззвание с призывом к лойяльности Соввласти и отказом борьбы с ней» 22 . Возможно, Д. И. Суворов хотел загладить вину, ведь изготовление листовок осуществлялось по его настоянию и полностью было его инициативой.
«Архипастырское послание» было подписано тремя лицами, хотя стилистика текста позволяет говорить о единоличном его создании. Подлинники послания в настоящий момент не обнаружены, поэтому ниже мы воспроизводим текст копии «Архипастырского послания» в таком виде, в каком он сохранился в архивно-следственном деле.
Следствие по делу затягивалось, только от момента ареста Суворова до ареста Ам-филохия прошло 6 месяцев, а в целом оно длилось почти полтора года – от декабря
1921 до июня 1923 г. В ходе его арестованные получили большой опыт проживания в тюрьмах Оренбурга, Самары, Томска, Омска, Москвы 23 . В Москве обвиняемые пробыли с конца ноября 1922 г. до конца марта 1923 г., находясь в Бутырской и Лубянской тюрьмах.
Уже в первых числах декабря оба были допрошены следователем московского Секретного отдела ГПУ Чапуриным: допрос Суворова состоялся 1 декабря, а Амфило-хия – на следующий день 24 . На этих документах стоят резолюции известных сотрудников управления 25 . В то время через их руки проходили многие процессы по духовенству [1. С. 524, 561, 572; 10].
Как сказано выше, в Москве каждый из обвиняемых был допрошен только один раз. Позже Амфилохий и Д. И. Суворов писали заявления с просьбой вызвать на допрос и ускорить ход следствия или известить о том, что оно завершено. Амфилохий, в соответствии с усвоенными им нормами поведения в тюрьме, не получив ответа на два своих обращения, в третьем (от 19 февраля 1923 г.) заявляет, что если молчание продлится и дальше, тогда «вынужден буду начать голодовку» 26 .
Затягивание следствия могло иметь несколько причин. Ф. Е. Мельникова искали, но найти так и не смогли. В сопроводительных документах, высланных из Томска в Москву вместе с Амфилохием и Д. И. Суворовым, речь идет о том, что в Москву высылаются «дело Суворова Даниила Иосифовича и агентурные дела на епископа Тихона Сухова, епископа Амфилохия, Мельникова Федора и дело общей разработки старообрядческих епископов» 27 . На обложке одного из дел, входящих в общий том архивноследственного дела Журавлева и Суворова, осталась надпись: «Дело старообрядческих епископов» 28 . Однако были ли допрошены епископ Тихон и московские старообрядческие священноиерархи, остается неизвестным, эти материалы в деле не отложились.
Время шло, новых фактов у следствия не было, и бесперспективность его затягивания становилась очевидной. 25 февраля 1923 г. сотрудник VI отдела СО ГПУ Якимова на- писала заключение по результатам следствия. В течение марта его рассмотрели другие члены коллегии ГПУ – «Дело вместе с арестованными» было решено вернуть в Томск 29; и 3 апреля 1923 г. «заключенные за надлежащим конвоем» отбыли из Бутырской тюрьмы 30.
В июне 1923 г. в Томске состоялся открытый судебный процесс. В приговоре были названы только два обвиняемых – Амфи-лохий (А. С. Журавлев) и Д. И. Суворов. За контрреволюционную работу оба подсудимых были приговорены к расстрелу. Позже ВЦИК, по ходатайству томской общины, заменил его пятью годами заключения с конфискацией имущества 31 . Суровость приговора была обусловлена юридическими нормами той поры: при квалификации преступного деяния должна была «указываться только та из статей Уголовного Кодекса, которая содержит наиболее серьезную карающую функцию» 32 .
В биографиях Ф. Е. Мельникова упоминается, что он в 1920 г. томским губсудом был заочно приговорен к расстрелу по делу «О контрреволюции и сокрытии церковных ценностей»[3. С. 168; 4. С. 10; 7. С. 165]. Но называемая его биографами дата приговора не совпадает с судебным процессом по листовкам Ново-Архангельского скита; также не совпадает формулировка – о сокрытии церковных ценностей на процессе не упоминалось.
Можно допустить, что в основе устных сообщений самого Ф. Е. Мельникова о приговоре лежало чувство сопричастности к событиям, из-за которых двое его знакомых были приговорены к расстрелу; но о том, какую роль отвели ему специалисты томской юстиции, он не знал. Отметим, что фигурирующие в основных документах следствия и суда автор листовок Ф. Е. Мельников и подросток А. Чернышев упоминаются в приговоре как лица, которых укрывал обвиняемый А. Журавлев (епископ Амфилохий), и совместно с которыми Д. Суворов организовал изготовление прокламаций 33 .
Срок заключения Амфилохий отбывал в томском Доме принудительных работ, работая в переплетной мастерской 34. Прошения об амнистии с учетом его «крестьянского происхождения, принадлежности к неимущему классу, малообразованности, преклонного возраста и первой судимости» оставались без ответа 35 . Осенью 1926 г. он вернулся в Ново-Архангельский скит. Опыт, приобретенный Амфилохием в ходе следствия, суда и тюремного заключения, пригодился десять лет спустя (1933 г.), когда Ам-филохий оказался одной из центральных фигур процесса о «Сибирском старообрядческом братстве». Парадокс и трагедия его жизни состояли в том, что епископ-отшельник, всю жизнь стремившийся к молитвенному уединению в таежной келье, оказался в гуще политических событий.
Для публикации отобраны тексты шести документов. Они приводятся под собственными названиями, если таковые имеются. В других случаях название дано составителем документального приложения (Л. Приль). Сохранены орфография и пунктуация подлинников, стилистические особенности текста. Переданы подчеркивания в тексте документа. Восстановленные части слов и знаки препинания приведены в круглых скобках. Выпущенные фрагменты текста обозначены косыми скобками с отточиями. Все исправления, сделанные нами в тексте, оговариваются в подстрочнике. Приводятся следующие сведения о документе: шифр; степень аутентичности; способ воспроизведения; наличие подписи; использование бланков; тексты резолюций и делопроизводственных помет.