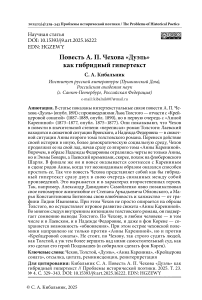Повесть А. П. Чехова «Дуэль» как гибридный гипертекст
Автор: Кибальник С.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны интертекстуальные связи повести А. П. Чехова «Дуэль» (опубл. 1891) с произведениями Льва Толстого — отчасти с «Крейцеровой сонатой» (1887–1889, опубл. 1890), но в первую очередь с «Анной Карениной» (1873–1877, опубл. 1875–1877). Они показывают, что Чехов в повести в значительной степени «переписал» роман Толстого: Лаевский находится в сюжетной ситуации Вронского, а Надежда Федоровна — в сюжетной ситуации Анны второго тома толстовского романа. Перенеся действие своей истории в иную, более демократическую социальную среду, Чехов продолжил ее на свой лад, начав сразу со второго тома «Анны Карениной». Впрочем, в образе Надежды Федоровны отразились черты не только Анны, но и Эммы Бовари, а Лаевский временами, скорее, похож на флоберовского Шарля. В финале же он и вовсе оказывается соотнесен с Карениным в сцене родов Анны, когда тот неожиданным образом оказался способен простить ее. Так что повесть Чехова представляет собой как бы гибридный гипертекст сразу двух в свою очередь связанных между собой произведений. Это выражается и в характерах второстепенных героев. Так, например, Александр Давидович Самойленко явно позаимствовал свое непомерное жизнелюбие от Степана Аркадьевича Облонского, а Марья Константиновна Битюгова свою влюбчивость и ханжество — от графини Лидии Ивановны. При этом Чехов не просто опирается на образы Толстого, но осуществляет игровое развитие сюжета «Анны Карениной». Во многом следуя внутренним интенциям толстовского романа, он подвергает сомнению выводы Толстого. По Чехову, в любом человеке — в том числе и в Лаевском, и в Надежде Федоровне, и даже в фон Корене — сохраняется возможность «обновления». При этом острие чеховской полемики направлено не только против «Анны Карениной», но и против «Крейцеровой сонаты». Не стоит, по Чехову, так строго судить людей, как Толстой, а уж тем более вершить над ними самостоятельный суд, как это сделал его герой Позднышев (и собирался сделать фон Корен).
Чехов, Толстой, «Дуэль», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», отсылка, цитата, реминисценция, реинтерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147252389
IDR: 147252389 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.16222
Текст научной статьи Повесть А. П. Чехова «Дуэль» как гибридный гипертекст
О связи повести Чехова «Дуэль» (1891) с творчеством Толстого начали писать уже первые чеховеды [Дерман: 206].
И в этом нет ничего удивительного. Ведь прямые отсылки к Толстому разбросаны по тексту всей повести.
Уже в I главе Лаевский говорит Самойленко:
«— <…> Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! »1 [Чехов: 355].
Как только на страницах повести (в главе IV) появляется фон Корен, автор тут же вкладывает в уста Лаевского уподобление им себя Толстому:
«Он и не нюхал цивилизации, а между тем: "Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!" Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена оны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой …» [Чехов: 374].
Поскольку действие повести происходит на Кавказе, то сближение с Толстым приобретает здесь хотя и скрытый, но более конкретный характер. Ведь завидовал «дикарям» и проклинал «цивилизацию» прежде всего Оленин, герой кавказской повести Толстого «Казаки» (1862, опубл. 1863).
Однако уже в главе II появляются другие — причем прямые — отсылки к Толстому: к его более известному и актуальному ко времени создания повести роману «Анна Каренина» (1873–1877; опубл. 1875–1877):
«На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: "Как это верно! как верно!"» [Чехов: 362].
Это отсылка к XXX главе первой части «Анны Карениной»:
«В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «"Ах, Боже мой! отчего у него стали такие уши? " подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы» [Толстой; т. 18: 109].
Отсылка эта, вероятно, сделана Чеховым по памяти и потому не совсем точна: она относится к сцене, которая следует сразу за первым объяснением Вронского в любви к Анне, то есть к моменту, когда она еще не могла «разлюбить» мужа. Однако важнее то, что вся эта глава, с начала до конца, проникнута толстовской темой «лжи» в человеческих отношениях:
«Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу» [Чехов: 362].
Заметим попутно, что во времена Чехова «всё, что он (Лаев-ский. — С. К .) читал против женщин и любви», — это прежде всего именно художественные произведения Толстого.
Продолжим эту цитату:
« И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читает для того, чтобы казаться умной » [Чехов: 362].
Аналогичным образом Вронский видел «притворство» в привязанности Анны к англичанке Ганне:
« — Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально »;
«— <…> Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту Англичанку, что это ненатурально » [Толстой; т. 19: 319, 322].
Лаевский теперь также повсюду видит в Надежде Федоровне «ложь»:
«Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни он видел ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — всё это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака » [Чехов: 365].
Таким образом, уже в экспозиции повести Чехова складываются устойчивые ассоциации со вторым томом «Анны Карениной», в котором Вронский постепенно осознает, что разлюбил Анну2.
Некоторые параллели между двумя произведениями настолько близки, что, скорее всего, представляют собой реминисценции. Так, Анна считывает неприязнь Вронского во время питья кофе:
«Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука, и жест, и звук, который она производила губами» [Толстой; т. 19: 327].
В «Дуэли» Лаевский испытывает сходные чувства во время поедания Надеждой Федоровной киселя:
«Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова» [Чехов: 365–366].
В следующих абзацах возникают четкие ассоциации уже даже не с «Анной Карениной», а с «Крейцеровой сонатой», опубликованной как раз в 1890 г., в конце которого Чехов начал работу над «Дуэлью»:
«Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду
Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу» [Чехов: 366].
Тем самым Лаевский, с одной стороны, противопоставлен таким, как Позднышев, а с другой — отчасти солидаризируется с этим женоубийцей.
В V главе мы узнаем, что Надежда Федоровна изменяет Лаевскому с полицейским приставом Кирилиным3. Тем самым в чеховской повести как бы оправдывается опасение Каренина относительно Анны:
«Если она будет разведенною женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная, потому что жене, по смыслу закона церкви, не может быть брака, пока муж жив. "Она соединится с ним, и через год-два он или бросит ее, или она вступит в новую связь", — думал Алексей Александрович» [Толстой, т. 18: 453].
Перенеся действие повести в иную, более демократическую социальную среду, Чехов как бы продолжает ее на свой лад, начав сразу со второго тома «Анны Карениной». При этом в «Дуэли» сбывается первое и едва не сбывается второе предчувствие Каренина: Надежда Федоровна и в самом деле вступает « в новую связь », а Лаевский едва не « бросает » ее.
Поначалу остается до конца непонятным, с какими героями Толстого соотнесены в первую очередь эти чеховские характеры. Как мы видели, парадоксальным образом Лаевский местами вызывает ассоциации не с Вронским или Карениным, а с Анной. И, должно быть, не случайно: ведь ненависть его к Надежде Федоровне соотносится с «ненавистью» Анны к Каренину, которую она испытывает к нему после того, как тот «прощает» ее во время родов (часть четвертая, глава XX). Однако по большей части эта ненависть все же соотнесена в повести с ненавистью Вронского к самой Анне, постепенно развивающейся по ходу второго тома романа. Становится понятно, что, будучи вовсе не похожим на Вронского (скорее уж, Лаевский отдаленно смахивает на Левина4), чеховский герой находится в его сюжетной ситуации. Только чеховский «Вронский» не просто разлюбил Анну, но, в отличие от своего литературного прототипа, не скрывает это от самого себя и даже решается бежать.
При этом отношение Лаевского к Надежде Федоровне постепенно меняется. Однако о таком изменении Чехов опять-таки рассказывает нам посредством образов, ассоциативно связанных с романом «Анна Каренина»:
«После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины ; ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить » [Чехов: 405].
Впрочем, убийство лошади — это, скорее, из «Преступления и наказания», но ведь свое само убийство Анна не без оснований ощущает как вынужденное: других вариантов у нее не остается.
Историю Вронского и Анны Чехов трансформирует неожиданным образом. Вначале приходит известие о смерти мужа Надежды Федоровны. По-видимому, тот намного старше ее, и, следовательно, именно он в первую очередь соотнесен с Карениным (вспомним слова Лаевского: «Мы бежали, в сущности, от мужа …» [Чехов: 355]). А затем чеховская «Анна» и в самом деле оказывается неверна уже Лаевскому, так что он вдруг получает полное моральное оправдание для того, чтобы разорвать с ней отношения.
Однако вместо того, чтобы воспользоваться им, он вдруг понимает (в результате потрясения, которое Лаевский испытывает накануне дуэли), что в измене Надежды Федоровны есть и его вина. Между тем более близкого, чем она, человека у него нет:
«Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он всё узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил:
— У меня нет никого, кроме тебя» [Чехов: 450].
Следовательно, в финале Лаевский соотнесен уже не с Вронским, а, скорее, с Карениным в сцене родов Анны, когда тот неожиданным образом оказался способен простить ее. Вот как объясняет преображение Каренина в романе сам Толстой:
«Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал» [Толстой; т. 18: 439].
Герой Толстого испытывает «радость и умиление пред своей высотой своего смирения » [Толстой; т. 18: 453]. Однако, может быть, именно это и не позволяет Анне принять его жертву:
«Я ненавижу его за его великодушие» [Толстой; т. 18: 448].
У Чехова все проще. Лаевский теперь видит «ложь» в самом себе и осознает вину перед Надеждой Федоровной:
«У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной… Остальное доделали эти люди» [Чехов: 437].
Это отзвук уже, наверное, не Толстого, а Достоевского с его идеей о том, что «всякий из нас пред всеми за всех и за всё виноват» [Достоевский: 262].
Чеховский герой уходит на дуэль с мыслями не о своем спасении, а о спасении Надежды Федоровны:
«Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем» [Чехов: 439].
Мечтавший в начале повести об « обновлении », которое он планировал найти в Петербурге: «Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской и я жажду своего обновления » [Чехов: 399], — Лаевский неожиданно обретает его здесь, на Кавказе: «Спасения надо искать только в себе самом… » [Чехов: 438].
Из всего сказанного ясно, что Надежда Федоровна в повести соотнесена в основном с Анной Аркадьевной. Причем иногда эта соотнесенность даже приобретает, по-видимому, обобщенно-иронический характер. Например, когда жена Лаевского блефует перед Марьей Константиновной:
Впрочем, к чертам Анны Карениной в ней то и дело примешиваются характеристики Эммы Бовари [Кибальник, 2021a: 100–105]. Роман Флобера вообще, как мне уже приходилось писать [Там же], является еще одним существенным претекстом «Дуэли»5. Если ее начало и конец, скорее, ассоциируются с «Анной Карениной», то все остальные главы построены в основном по сценарию «Мадам Бовари». Оказавшемуся в роли Вронского Лаевскому, который тяготится жизнью с увезенной им от мужа Надеждой Федоровной, героиня изменяет с полицейским приставом Кирилиным. Причем, в отличие от Эммы, она делает это не по страстной любви, а от скуки и «желания» [Чехов: 370]. Кирилин — своего рода пародия на флоберовского Родольфа и мопассановского Дюруа из «Милого друга». Он оказался «грубоватым, хотя и красивым» [Чехов: 370], и Надежда Федоровна пытается с ним порвать.
На горизонте тут же показывается другой претендент в любовники — молодой Ачмианов, отдаленно соответствующий флоберовскому Леону. Леон появляется в жизни Эммы спустя какое-то время после ее разрыва с Родольфом. В соответствии с принципом концентрации действия, характерным для жанра повести, Чехов делает Ачмианова не любовником, а всего лишь влюбленным в Надежду Федоровну героем. Его сюжетная роль ограничивается тем, что он открывает глаза Лаевскому на измену его жены с Кирилиным6.
В этой флоберовской перспективе Лаевский оказывается уже как бы в роли Шарля Бовари, с которым у него есть определенное сходство. Однако если Шарль в основном сливается с провинциальной средой, то Лаевский страдает от мещанского окружения не меньше, чем флоберовская Эмма. Что же касается Надежды Федоровны, то ее образ представляет собой полемическую интерпретацию характера героини флоберовского романа. Ведь ее периодически посещает ощущение, что « она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина » [Чехов: 382].
Таким образом, повесть Чехова представляет собой как бы гибридный гипертекст сразу двух в свою очередь связанных между собой произведений (см.: [Шульц]). При этом значение «Анны Карениной» для «Дуэли» ничуть не меньше, чем значение «Мадам Бовари». В частности, оно выражается в характерах второстепенных героев. Так, например, Александр Давидович Самойленко явно позаимствовал свое непомерное жизнелюбие от Степана Аркадьевича Облонского, а Марья Константиновна Битюгова свою влюбчивость и ханжество — от графини Лидии Ивановны.
Правда, влюбчивость этих героинь реализуется по-разному. У Толстого «графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленною в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленною в кого-нибудь. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин и в женщин; она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. <…> Но с тех пор как она, после несчастия, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие, а что она истинно влюблена теперь в одного Каренина» [Толстой; т. 19: 81–82]. Чеховская Марья Константиновна до 32 лет «жила в гувернантках потом вышла за чиновника Би-тюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове "любовь" и уверяла всех, что она очень счастлива» [Чехов: 379]. Однако предмет увлечения и Марьи Константиновны, и Лидии Ивановны — довольно невыразительные чиновники.
Разумеется, при этом Самойленко начисто лишен донжуанства и мотовства Облонского, а Марья Константиновна — зловредности Лидии Ивановны (которую изобличает ее отказ позволить Анне увидеться с сыном, а затем и сделанный под ее влиянием отказ Каренина в разводе). Однако общая родственность этих героев Чехова персонажам «Анны Карениной», на наш взгляд, несомненна. Марья Константиновна отчасти даже усвоила манеру Лидии Ивановны выражаться. Так, об умершем муже Надежды Федоровны она говорила:
«Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле» [Чехов: 400].
В то же время Лидия Ивановна, непрестанно твердила, что он святой, самому Каренину и всем окружающим:
«Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла» [Толстой; т. 19: 80].
Обе героини то и дело смотрят или говорят восторженно (ср., например: «Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза» [Толстой; т. 19: 88] и «На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь» [Чехов: 400]). Как и графиня Лидия Ивановна, Марья Константиновна то и дело плачет: например, в главе X, в которой она убеждает Надежду Федоровну венчаться с Лаевским. Правда, в отличие от графини Лидии Ивановны, ее лицо то и дело принимает «миндальное выражение», а временами она «миндально» улыбается [Чехов: 400, 401, 415]. Даже в этой чисто чеховской характеристике Марьи Константиновны, очевидно, сказывается свойственная именно Толстому манера характеризовать некоторых своих героев посредством одной и той же повторяющейся детали.
Итак, «Дуэль» — это «Мадам Бовари» или «Анна Каренина» с как бы раздвоившейся на женскую и мужскую ипостаси Эммой или Анной: Надеждой Федоровной и Лаевским. При этом отдаленно соответствующий флоберовскому Шарлю, толстовскому Вронскому, а в финале Алексею Каренину ее главный герой Лаевский перерождается, ощутив перед лицом смерти ответственность за судьбу своей гражданской жены.
Разумеется, Чехов не просто опирается на многие образы Толстого, но осуществляет игровое развитие сюжета «Анны Карениной». Во многом следуя внутренним интенциям толстовского романа, он подвергает сомнению выводы Толстого. По Чехову, в любом человеке — в том числе и в Лаевском, и в Надежде Федоровне, и даже в фон Корене — до самого конца сохраняется возможность «обновления». При этом острие чеховской полемики направлено не только против «Анны Карениной», но и против «Крейцеровой сонаты». Не стоит, по Чехову, так строго судить людей, как Толстой, а уж тем более вершить над ними суд самому, как это сделал его герой Позднышев (и собирался сделать фон Корен), потому что «никто не знает настоящей правды» [Чехов: 453].
Однако, споря с Толстым в «Дуэли», Чехов пока еще опирается в основном на самого Толстого (во второй половине 1890-х гг. это будет уже не так). Ведь неожиданная финальная перемена в Лаевском отчетливо отсылает к тому «обновлению», которое произошло с Карениным в сцене родов Анны. У Толстого это «обновление», увы, оказалось временным. С чеховскими героями оно происходит окончательно или, во всяком случае, надолго. Художественный мир Чехова вообще строится в значительной степени на преодолении острого ощущения трагизма жизни за счет особого рода лирического сарказма, присущего писателю в его зрелом творчестве.
Ранее, говоря о пародийности повести Чехова «Дуэль» и рассказа «Попрыгунья» применительно к роману Флобера «Мадам Бовари», мы — вслед за Р. Г. Назировым ([Назиров: 52–56]; [Кибальник, 2015: 97–99]) — усматривали в них своего рода « конструктивную пародию » или криптопародию [Кибаль-ник, 2021b: 203–205], то есть полемическую интерпретацию, не преследующую цели пародирования первоисточника.
«Конструктивный» характер носит и соотношение повести «Дуэль» с романом Толстого «Анна Каренина». Едва ли только уместно здесь говорить о крипто пародийности, ведь отсылки к Толстому имеют в повести достаточно откровенный характер, а о пародии не стоит говорить здесь вообще. «Дуэль» — это просто художественная реинтерпретация толстовского романа, или гибридный гипертекст «Анны Карениной» и «Мадам Бовари». При этом основной претекст чеховской повести — это все же роман Толстого.