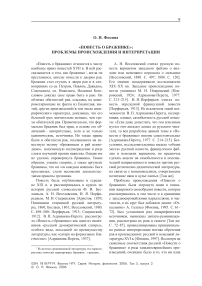«Повесть о бражнике»: проблемы происхождения и интерпретации
Автор: Фокина О.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736758
IDR: 14736758
Текст статьи «Повесть о бражнике»: проблемы происхождения и интерпретации
«Повесть о бражнике» относится к числу наиболее ярких повестей XVII в. В ней рассказывается о том, как бражника 1, когда он преставился, ангелы отнесли к дверям рая. Бражник стал стучать в двери рая и в словопрениях со св. Петром, Павлом, Давидом, Соломоном, св. Николаем, Иоанном Богословом доказал свое право быть в раю. Он обличал обитателей рая, ссылаясь на компрометирующие их факты из Евангелия, житий, других произведений (в том числе апокрифического характера), доказывал, что его бытовой грех значительно меньше, чем грехи обитателей рая. Примечательно, что формально бражник был прав, в основе его обличений – авторитетные, хотя и не только канонические, источники. Но также правы были и обитатели рая, ссылавшиеся на известную истину «бражникам в рай невхо-димо», получившую подтверждение в ряде слов и поучений против пьянства. Однако им не удалось опровергнуть бражника. Таким образом, умение спорить, а также аргумент бражника, что он «за каждым ковшом» Бога прославлял, стали весомыми доказательствами правоты грешника.
Повесть была опубликована в середине XIX в. и рассматривалась в курсах по истории русской словесности Ф. И. Буслаевым, А. Н. Веселовским, И. Я. Порфирьевым, М. Н. Сперанским [Аристов, 1859; Памятники старинной русской литературы, 1860; Буслаев, 1861; Веселовский, 1880. С. 498–500; Порфирьев, 1913; Сперанский, 1912]. В. П. Адрианова-Перетц рассмотрела «Повесть о бражнике» как один из памятников «русской демократической сатиры», особого вида, посадской по преимуществу литературы, как «сатиру на формальное благочестие» [Адрианова-Перетц, 1937].
А. Н. Веселовский считал русскую повесть вариантом западного фаблио о виллане или немецкого пересказа о мельнике [Веселовский, 1880. С. 497; 1888. С. 120]. Его мнение поддерживали исследователи XIX–XX вв. Западное происхождение повести упоминал М. Н. Покровский [Покровский, 1924; Адрианова-Перетц, 1977. С. 213–215]. И. Я. Порфирьев считал повесть переделкой французской повести [Порфирьев, 1913]. Не исключала такой возможности В. П. Адрианова-Перетц, подчеркивая, однако, самобытность русской повести: «Если даже допустить, что тем или иным путем этот анекдот дошел до русского читателя, то вся разработка данной темы в «Повести о бражнике» вполне самостоятельна» [Адрианова-Перетц, 1977. С. 214–215]. Безусловно, исследовательница видела «общие места» русской повести, французского фаблио и немецких вариантов, но предпочла сделать акцент на самобытности и полемической направленности повести против русской религиозно-дидактической литературы, на связи ее с вольномыслием, отвергающим почитание икон и культ святых [Там же].
Проблема происхождения «Повести о бражнике» была затронута нами в описании жанрового своеобразия повести, которое рассматривалось в том числе и в сравнении с западноевропейскими параллелями, в частности, в их круг был добавлен диалог «Отшельник» А. Галатео [Фокина, 1995. С. 61– 72]. Был установлен ряд апокрифических источников, выявлены цитаты-реминисценции, рассмотрена их роль в сюжете [Там же. С. 72–87], проанализированы принципиально разные интерпретации мотива обретения рая в произведениях русской и немецкой литературы XVI в. [Фокина, 1997]. Несмотря на сюжетные соответствия русской «Повести о бражнике» и ряда западноевропейских произведений, очевидно было и то, что ни одна
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © О. Н. Фокина, 2006
из упомянутых западноевропейских повестей не может претендовать на роль единственного и непротиворечивого источника повести во всей полноте ее формально-содержательных признаков. Поскольку ни один из ранних списков XVII в. не восходит к архетипу, начальный период литературной истории повести не сохранился, что затрудняет и решение проблемы происхождения повести.
На актуальность проблемы происхождения «Повести о бражнике» обратила внимание С. А. Семячко [Семячко, 1998. С. 7–13]. Беря за основу наблюдения А. Н. Веселовского о западноевропейских параллелях «Повести о бражнике», она считает, что в ней «факт заимствования налицо» [Там же. С. 8], однако в отличие от А. Н. Веселовского, который рассматривал фаблио о виллане как источник для немецких вариантов и для русской повести [Веселовский, 1880. С. 498–499], исследовательница полагает, что «…обращение к другому немецкому варианту не позволяет нам так однозначно возводить древнерусскую повесть к французскому источнику» и указывает на «басню» «Почему ландскнехты попадают в рай, а не в ад» из сборника Ганса Вильгельма Кирхгофа «Отврати печаль» [Немецкие шванки…, 1990. С. 255–256]. Однако и это сравнение не позволяет утверждать преемственность, поэтому С. А. Семячко признает: «Что же касается механизма заимствования и конкретного произведения, которое могло послужить непосредственным источником древнерусской повести, то определить их в настоящее время совершенно невозможно» [Там же. С. 8]. Тем не менее была предпринята попытка охарактеризовать архетип, используя результаты текстологического анализа [Фокина, 1995. С. 57], исходя из посылки, что «Повесть о бражнике» – произведение заимствованное. С. А. Семячко присоединяется к нашему мнению о том, что протограф 1 группы с концовкой «о лучшем месте» вторичен по отношению к протографу 2, не имеющему такой концовки. Однако в отличие от высказанного нами предположения о том, что назидательная концовка вторична [Там же. С. 152], исследовательница полагает, что во второй группе первичными являются списки с назидательной концовкой: «А вы, братия моя, сы-нове рустии, православныи християна, богу молитеся, на бруд (блуд?) не бывайте, оставляете, а не упивайтесь без памяти, не буде- те без ума, и вы наследницы будете царствию небесному и райския обители» 2. «Несмотря на то, что эта мораль противоречит основному содержанию повести, сам факт, что произведение оканчивается моралью, полностью согласуется с западноевропейской традицией. …Русская повесть, сохраняя структуру европейских версий, в принципе меняет характер концовки: она выдержана в духе традиционных назидательных произведений, направленных против пьянства и широко распространенных на Руси» [Семячко, 1998. С. 10–11]. Это мнение связано с высказанной ранее точкой зрения исследовательницы о том, что в «Повести о бражнике» получил отражение обычай тропарных чаш [Семячко, 1996. С. 405–409]. «Герой охарактеризован как человек, который “пьет и Бога славит”. Формула “пить и Бога хвалить (славить)” зафиксирована большим количеством текстов. С ней мы постоянно встречаемся в надписях на чашах, ковшах и братинах самого разного времени» [Там же. С. 407]; «А если учесть, что существовала как светская, так и церковная традиция “пить и Бога славить”, то грех бражника превращается чуть ли не в достоинство, и становится понятной та уверенность, с которой герой отстаивает свое право на место в раю» [Там же. С. 408–409].
Представленные поправки и дополнения к имеющимся данным по литературной истории «Повести о бражнике» представляют несомненный интерес. Для того чтобы более подробно прокомментировать высказанное мнение, имеет смысл обратиться к раннему этапу литературной истории и подробнее рассмотреть характеристику героя «Повести о бражнике» и связанный с ней завершающий эпизод, концовку повести. Несмотря на то что этот период представлен фрагментарно, ряд текстологических наблюдений позволяет высказать предположения о происхождении «Повести о бражнике» и об особенностях интерпретации смысла повести в рукописной традиции XVII в.
Повесть известна в 52 списках XVII– XIX вв., самый ранний список датируется началом XVII в. [Фокина, 1986. С. 18–42], что позволяет предположить, что она возникла ранее XVII в. [Фокина, 1995]. «Повести о бражнике» в рукописной традиции при- суща определенная свобода изложения, но ее сюжетная структура достаточно устойчива. Повествование распадается на эпизоды: экспозиция (характеристика главного героя); вступление (умирает бражник, ангелы берут его душу, приносят к вратам рая); диалоги (бражник просится в рай, приходящие по очереди апостолы Петр и Павел, затем Давид и Соломон, св. Николай его не пускают, ссылаясь на то, что «пьяницы царства Божия не наследят», бражник обличает обитателей рая, ссылаясь на компрометирующие их факты, доказывает, что он также имеет право находиться в раю); концовка (Иоанн Богослов бражника пускает в рай).
Вариативность текста заключается в вольном изложении эпизодов (вплоть до пересказа), в перестановке фраз и слов, иногда в нарушении последовательности диалогов или в отсутствии одного из них. Устойчивость опорных элементов текста, к которым относятся вступление и диалоги, определяет цельность повествования и композицию. Сюжет повести не меняется, но концовка вносит решающий вклад в интерпретацию всей истории. Поэтому именно концовка подвержена наибольшим изменениям и является самой подвижной частью текста повести, вбирающей в себя ее идейный смысл, который проясняется, как правило, через замысел всего сборника. Экспозиция повести, содержащая характеристику бражника, также подвижна и определенным образом связана с концовкой.
Из 12 списков повести 5 дефектны, но, за исключением одного списка, сохранили начальный эпизод. Семь полных списков «Повести о бражнике» XVII в. представляют пять редакций повести. Они распадаются на две группы в зависимости от концовки. В первой группе, к которой относятся списки [ГАКоО. № 7; ГАКаО. № 916], есть мотив «о лучшем месте»: бражник вошел в рай и сел в лучшее место. В Костромской редакции концовка следующая: «И рекоша святии отцы: “Мы, брате, преже тебя в раю, а х тому месту при-ступитися не смеем. А ты в раю после нас, а занял лутчее место”. Бражник же изумеляся, на них глядя, слуша Глас, глаголющ святым отцем: “Яко не умели з бражником говорить, господине бражник наш человек, не прика-сайтеся к тому месту и ныне” [ГАКоО. № 7], в Калининской редакции: «И рече ему свя-тыи отец Николае: “Мы, брате, прежде тебя в раю, а тому месту приступитца не смеем. А ты, господине, в раю после нас, а занел лу-тчее место”. Иоанн же Богослов рече: “Яко не умеем с бражником зговорити, а не токмо с терезвым, благословенно ему то место во веки веков”» [ГАКаО. № 916]. В редакциях второй группы такого мотива нет: бражник входит в рай, и на этом история завершается [РНБ. ОЛДП Q.XVIII, Q.XVII.176; ГАКаО. № 1540; БАН. 1.4.1; ЦНБ АН УССР. Петр. № 212].
Протографы первой и второй групп восходят к архетипу. Поскольку чтения «о лучшем месте» определяются как вторичные, детально будут рассмотрены редакции второй группы, однако чтения экспозиции первой группы также представляют интерес, поскольку они, возможно, лучше передают чтения предполагаемого архетипа.
Первая группа
В Костромской редакции экспозиция дает следующее описание главного героя: «Бысть некий человек бражник, беспреста-ни пиюще по вся дни, поста в себе не имеющее и празников господских не почитающее, а пил рано, за всяким ковшем господа Бога прославлял» [ГАКоО. № 7, л. 2 об.]. В тексте есть обвинение св. Николая в том, что он «дерзнул на иерея рукою» (имеется в виду «заушение» Ария), к тому же принимает от паствы «посулы великие и кануны слат-кие» [Там же, л. 3]. Решение о лучшем месте бражника в рай исходит от Бога.
Калининская первая редакция в списке «Сказание о премудром бражнике» дает сходное описание героя: «Бысть некий человек имянем бражник, безпрестани пиющи по вся дни живота своего и не имея празни-ков господских, а за всяким ковшем господа Бога прославлял и никакова дни не пропустил» [ГАКаО. № 916, л. 387].
Таким образом, порок представлен во всей полноте, упомянуты такие значимые для читателей того времени обстоятельства, как пост и господские праздники, следовательно, в этих редакциях описано именно то «омраченное» пьянство, которое осуждалось в словах и поучениях: «…в праздники же великия пиров не деяти, пьянства бегати, испивати мало…» 3. Однако ра- зум, мудрость, как подчеркивается в каждом диалоге («Петр же подивися тому ево ответу мудрому и отиде прочь посрамлен» [ГАКаО. № 916, л. 388 об.]), стали залогом успешной полемики. Эта редакция не содержит первого обвинения, но более резко изложено второе: св. Николай повинен в распространении пьянства, и вопрос о лучшем месте задает св. Николай. Решение о месте бражника в раю принимает Иоанн Богослов.
Таким образом, в редакциях первой группы главный герой неоднозначный, он – грешник, но Бога славит. Трактовка порока близка к пословицам «Чарка вина прибавит ума», «Пьян бывал, а ума не пропивал», «Пьян да умен – два угодья в нем» [Адрианова-Пе-ретц, 1972].
Вторая группа
Редакция ОЛДП [РНБ. ОЛДП Q.XVIII]
Повесть в редакции, представленной списком в сборнике РНБ. ОЛДП Q.XVIII, называется «О пьянстве». В экспозиции главный герой наделен новыми чертами: бражник не только пил: «а за всяким ков-шем господа Бога прославлял», но еще «и в нощи на камени спал и Богу ся молил» [РНБ. ОЛДП Q.XVIII, л. 303]. Таким образом, в этой редакции развиваются «реабилитирующие» «неоднозначного» героя черты. Про себя бражник говорит, представляясь обитателям рая: «Аз есмь грешныи человек...», что также вносит новый акцент – смирение. Концовка редакции ОЛДП «нейтральна»: «Бражник же вниде в рай» [Там же, л. 306 об.], она не имеет ни поучения, ни «смехового» оттенка.
Редакция ОЛДП отличается краткостью, но порой содержит подробности, отсутствующие в других редакциях: 1) сохранилось упоминание имени Павла до крещения в соответствующем эпизоде: «А помниши ли ты, Павел апостол, когда бил Савил Тарсянин» [Там же, л. 304 об.]; 2) Давид называется по отчеству: Давид Осеевич.
Диалог со св. Николаем не содержит первого мотива (как в Костромской редакции), а как бы дополняет диалог Калининской первой редакции: «А помниши ли ты, святыи Николае, коли ты нам велел кануны варить, а нам, бражникам, велел пить, долго сиде-ти, свои празники величать» [Там же, л. 306] (ср. в Калининской первой редакции: «И мы, грешныи люди, бражники, от твоих канонов вконец погинули» [ГАКаО. № 916, л. 389]. В редакции ОЛДП нарушен порядок диалогов: диалог со св. Николаем следует после диалога с Давидом, а не с Соломоном, как в остальных редакциях.
Сборник ОЛДП Q.XVIII конца XVII в. написан несколькими почерками. «Повесть о бражнике» под названием «О пьянстве» расположена перед поучением против пьянства «О пьянстве ино».
Таким образом, в сборнике представлены две точки зрения на порок: нетрадиционная и каноническая.
Калининская вторая редакция [РНБ. Q.XVII.176; ГАКаО. № 1540]
«Слово о бражнике» в сборнике РНБ Q.XVII.176 представляет собой яркую индивидуальную трактовку сюжета Повести. Она начинается следующей характеристикой героя: «В первобытныя лета некий бражник всегда пиюще и веселящееся в Гос-поцкие праздники и по вся дни, а за всяким ковъшичком Господа Бога славящее и пресвятую Богородицу в помощь призывающее и угодников Боижих всегда воспоминающее, апостолов, пророков, святителей преподобных и мучеников и мучениц…»
Уже в экспозиции перед нами предстает не просто «некий человек», олицетворение известного порока, но и «...начетчик... вели-кои и богословец и книжник и сказатель слову Божию», который «за всяким квъшичком господа Бога славяща и пресвятую Богородицу в помощь призывающе и угодников Божиих всегда воспоминающе, апостолов, пророков, святителей преподобных и мучеников и мучениц». «И сперва был муж постен и благочестив и нищелюбив, беспрестани в посте и на молитве упражнялъся и к церкве Божии всегда ходил, начетъчик был слову Божию и искатель глубины разума» [РНБ. Q.XVII.176, л. 142] (cр. в редакции ОЛДП: «в нощи на камени спал и Богу ся молил»). На пьянство бражника «уловил» дьявол, причем только «на старость», так как «позавиде житию сего странноприимца и богословца» [Там же].
Вступление, которое в других редакциях ограничивается ремарками: «взял душу», «принесе», «постави», «отошел», здесь развернуто в самостоятельный большой эпизод: добрые дела искупили душу бражника («первые добрые дела ее анъел господень нес с собою и клал в вески против мытарств и от бесов тем душу искуплял»), она миновала мытарства и муки. «И принесе ю анъ-ел господень к небесному царствию, и показа еи дворы господниа, где живут пророцы и праотцы преподобнии и праведнии, апосто-ли, святители и мученики, и показа ему все полаты их зело прекрасны и предивны и пре-курашенны от злата и сребра и от камения драгого блещеся и сияе паче солнечных лучей» [Там же, л. 142 об. – 143]. Бражник, который «зело возлюбил двор господень и желает во единую палату, кою получе, внити и в неи житии» [Там же, л. 143], говорит ангелу: «Благо мне зде пребыти, яко сподобил мя господь такои прекраснои двор узрети и предивны полаты видети, и не изыду отсю-ду, добр ми покои зде буде и радостен и весел, толко бы де хош единую чарочку винъ-ца дали испить и все бы де аз земное забыл» [Там же]. Ангел начал звать его назад, «он же не хотящи вон итти и долго спираясь с ним». «Анъел же господень едва с великим трудом взя ево за руку и выведе вон», отошел, говоря: «Не буду аз зде с тобою быти, но прочь отиду иа с тово двора господня, едва с великим трудом насилу выжил, зело ты бесты-ден, да еще и напраслив к чарочки и винца захотел, а зде ты тово же захочешь? И про-мышляи ты сам о себе, а я тебе отселе не товарищ» [Там же].
Такое вступление имеет функцию самостоятельного эпизода, который в значительный мере определяет тон повествования, пронизанный юмором и балагурством. Сохраняя общую для всех редакций сюжетную схему, автор небольшими добавлениями придает этой редакции повести особый колорит. Вот как, например, обращается бражник к Николаю: «Ой еси ты, святче Божии, святитель Христов Николае!» [Там же, л. 145]; всем святым бражник говорит: «Буди до мене милостив»; царю Давиду: «И ты, господине, не прогневайся нами, ты и блудник и убийца»; святые уходят, «зело подивяся сему мудрому ответу»; бражник толкается в дверь «смело и неискусно». Отмечена мягкостью и концовка редакции: Иоанн Богослов говорит: «Брате мои милыи, поди в раи и буди с нами во царствии небесном». Близок к РНБ Q.XVII.176 список повести ГАКаО № 1540, но он не имеет вступления и эпизода со св. Николаем.
Данная редакция дает более развернутую характеристику главного героя, во многом
«поднимающую» его на необходимую высоту, обосновывающую его право на место в раю.
Более ранние, но дефектные списки повести [ГИМ. Заб. № 435; Барс. № 2397; Барс. № 2406], сохранившие начало, близки в экспозиции почти дословно и содержат чтение «Бе некий человек пиюще добре по вся дни и в праздники господни до обеда пиюще, за первым ковшем всегда господа Бога прославлял и тако творил от юности и до старости» [ГИМ. Заб. № 435]. «Тои человек испивает от юности до старости» [Там же. Барс. № 2406]; «Тако ж де творил от юности и до старости своеи» [Там же. Барс. № 2397].
Вероятно, это более раннее чтение, получившее своеобразное развитие в списке РНБ Q.XVII.176 (грех «на старость»).
Сборник РНБ Сол. № 1137/1247 начала XVII в. содержит отрывок самого раннего из известных списков «Повести о бражнике»: экспозицию, вступление и начало диалога со св. Петром. Он расположен в конце сборника, каждая строка текста аккуратно зачеркнута, кроме того, лист перечеркнут в виде буквы Ж. Край листа оборван по всей длине, поэтому пострадало начало некоторых строк, особенно последних. Этот отрывок очень важен для характеристики главного героя, поэтому приводим его полностью: «Бысть в некоем граде бражник, всегда пивал без памяти, праздников Божиих не зная и святых дней не почитая, и не бысть в нем добра Божия. И мало толико человек тои поминал господа: в то время, егда учне пити ковш, и он тогда глаголя: “Господи Исусе Христе, сыне Божии, благослови, Христос”. Не по мале времени сконча живот свои да преставис, и прииде ко вратом святаго рая, и нача толкатися у врат ...снаго рая. И прии-де ко вратом небеснаго рая апостол Христов Петр и глаголя: “Кто есть толкущеи у врат небеснаго рая?” ...тои Петру апостолу: “Аз есмь ...желаю с вами бысть в раю”....царство небесное».
Данный список замечателен во многих отношениях. Первая часть характеристики бражника в нем наиболее близка к Костромской редакции: «...беспрестани пию-ще по вся дни, поста в себе не имеюще и празников господских не почитающе, а пил рано...» и повторяется с небольшими изменениями во всех списках XVII в. Вторая же часть: «...и не бысть в нем добра Божия» в известном смысле противоречит не только редакции ОЛДП, «подтягивающей» главного героя к нормативному облику кающегося грешника: «в нощи на камени спал и Богу ся молил», и Калининской второй редакции [РНБ. Q.XVII.176], в которой добрые дела «богословца и начетчика» перевесили грехи, но и всем остальным, где бражник «за каждым ковшем господа прославлял» (ср. «...и мало толико человек тои поминал господа...» [РНБ. Сол. 1137/1247]). Вся «слава» бражника в Соловецком списке заключается в обыденной, бытовой молитве, благодаря которой он и попал в рай. В этом списке герой наиболее близок к благоразумному разбойнику из апокрифического Слова Евсевия «О вшествии Иоанна Предтечи во ад», который противопоставляется самоуверенным праведникам. Есть определенные переклички с идеями таких произведений, как «Слово о разбойнике, спасшемся малых ради слез», где один «убрусец», смоченный слезами разбойника «человеколюбие Божие с ним» перевесили «многие хартии», где были «писаны грехи разбойничьи» [РНБ. Тих. № 583, л. 107], «Поучение избранно от святых писании како подобает крестьяном жити» о молитве-поминании Господа: «тако творящее по вся дни не забудет творца своего, ото Господь в векы его не забудет» [ЦНБ АН УССР. № 516, л. 100 об.], Поучение Владимира Мономаха «аще инех молитв не умеете молвити, а «Господи помилуй мя» зовете беспрестане, втайне: та бо есть молитва лепши, нежели мыслити безлепицю ездя» [Памятники литературы…, 1978]. Примечательно, что в этом списке бражник приходит в рай сам, без помощи ангелов. Таким образом, в этом списке герой предстает грешником, подчеркнуто, что «не бысть в нем добра Божия». Этот список – самый ранний из всех сохранившихся списков. Ни в одном из известных списков повести XVII в. нет аналогичного начала. Сохранилось лишь одно упоминание о молитве бражника в списке Повести в сборнике БАН 13.6.8 первой половины XVII в. «...за всяким ковшем господа Бога своего прославлял, с молитвой перекрестясь пил» [БАН. 13.6.8, л. 124].
Тщательно зачеркнутые строки «Слова о некоем бражнике» свидетельствуют о своеобразной оценке этого произведения. Как представляется, перед нами образец монастырской цензуры. Очевидно, что текст по- вести, как сочинения нежелательного в монастыре, сохранился только потому, что на л. 153, где начинается повесть, переписан был конец предыдущего произведения. По-видимому, сборник Сол. № 1137/1247 – только часть рукописи. Возможно, он поступил в Соловецкий монастырь путем вклада или после смерти владельца. О том, что в монастырских библиотеках имел место отбор, свидетельствует репертуар библиотеки Соловецкого монастыря XVI–XVII вв., где не было места светскому чтению [Кукушкина, 1977].
И, наконец, список Ждановской редакции повести в сборнике БАН 1.4.1 (Ждановский сборник), 60–70-е гг. XVII в. имеет заглавие: «Повесть о некоем человеке (...) бражнике». Экспозиция отличается краткостью: «Некий человек, пиющий рано вельми в праз-ники Божия, за всяким ковшем господа Бога своего прославляет». (Ср. «беспрестани пи-юще по вся дни» – Калининская первая, Костромская редакции). После обычной концовки: «И отверзоша врата Божия и возрадовася бражник радостию великою» приписана сентенция: «А вы, братия моя, сынове рустии, православныи християна, Богу молитеся, на бруд (блуд?) не бывайте, оставляете, а не упивайтесь без памяти, не будете без ума, и вы наследницы будете царствию небесному и райския обители».
Смысл повести в данном случае меняется: бражник пил рано в праздники и славил Бога. В таком случае история послужила основанием для последующего поучения, следовательно, бражника пустили в рай либо за то, что он пил умеренно («Не упивайтесь без памяти» – общее место в поучениях и словах против «омраченного пьянства»), либо только за то, что он славил Бога.
Текст Ждановской редакции плохой сохранности, грешит ошибками, которые выдают не только невнимание, но и непонимание редактором переписываемого текста. Ср.: «..аз же тебе не слезы могли» [БАН. 1.4.1] и «...аще бы тебе не слезы помогли» [ГИМ. Заб. № 453], слуга Давида Урия назван в Ждановской редакции Уляном.
Хотя в Ждановской редакции сохраняется сходное с другими редакциями сюжетное построение, изложение в ней сжато. Вместо сказовой, плавной интонации «Сказания о премудром бражнике» (Калининская первая редакция) – прерывистое, местами путаное повествование о «некоем человеке».
В Ждановской редакции отсутствует диалог со св. Николаем, который, судя по результатам текстологического анализа, присутствовал в первоначальном тексте повести [Фокина, 1986. С. 31]. Примечательно, что диалог со св. Николаем есть в редакциях первой и второй групп, за исключением Ждановской.
Ждановская редакция получила развитие в XVIII в. лишь в списке БАН 13.6.8, сохранившем назидание: «Но вы, братия мои, внемлите сему: молитеся Богу, блуда не творите, не упивайтеся без памяти, не будете без ума и вы будите наследницы царствию небесному и раиския обители».
В двух списках Ждановской редакции прослеживаются общие чтения и общие ошибки. Так, слуга Давида Урия назван в обоих списках Улианом. Очевидно, эти списки имели общий протограф, поскольку список БАН 1.4.1 не мог быть источником БАН 13.6.8: в нем есть места, проясняющие ошибки и неточности первого. Он более распространен, в частности, в диалоге с Давидом: «Помниши ли, Давыде, когда послал слугу своего Улиана и велел князя своего Урия в войске убити, и ради прелюбодейства жену его Вирсавию взял к себе на постелю?» Вероятно, в протографе Ждановской редакции было неправильное чтение: Урия назван Улианом. Переписчик БАН 13.6.8, зная источник, решил исправить имя князя, однако, следуя протографу, оставил «слугу Ули-ана». В результате истолкование библейских событий оказалось неверным.
В рассматриваемых списках сохраняется общий порядок рассуждений со ссылками на Евангелие, в обоих списках евангельские слова сравниваются со звездами и песком. Однако во введении есть фраза, отсутствующая в БАН 1.4.1: «точию за каждым ков-шем Бога своего прославлял, с молитвою перекрестясь пил». По-видимому, это чтение было в протографе Ждановской редакции (Ср. молитву бражника в Сол. № 1137/1247). Можно предположить, что мотив «моления» бражника был в архетипе и в разных формах отразился в списках Сол. № 1137/1247, БАН 13.6.8, ОЛДП Q.XVIII, РНБ Q.XVII.176.
Ждановская редакция с поучительной концовкой в сборнике БАН 1.4.1 расположена после апокрифической Беседы Иерусалимской, написанной в форме диалога, и перед учительными словами и сказаниями из Пролога.
Итак, в редакциях XVII в. прослеживаются разные трактовки образа главного героя. Сравнение вступления, экспозиции и концовки ранних редакций «Повести о бражнике» позволяет высказать предположение о возможной характеристике героя в архетипе. Поскольку текстологическая картина соотношения редакций предоставляет практически равноправные возможности для всех редакций второй группы претендовать на статус основы архетипа, теоретически возможно, что Ждановская редакция могла быть первичной, как считает С. А. Се-мячко. Однако более вероятным представляется иное решение: приписка вторична и является поздним добавлением, попыткой использовать Повесть в дидактических целях. Во-первых, сама характеристика бражника краткая, усеченная, приближенная к завершающему поучению (заметим, что он Бога прославлял только в праздники). Но и с такой редукцией характеристики героя назидательная концовка выглядит искусственной и нелогичной. Сомнительно, чтобы для осуждения пьянства и апологии умеренного пития русский автор выбрал такой сюжет, который компрометирует обитателей рая. Во-вторых, эта повесть не о пьянстве, автор повести не задавался целью оправдать порок или провести его градации, в ней поставлена не проблема пития, а другая проблема: о мере греха и воздаяния. Пафос повести не в оправдании пьянства, а в доказательстве того, что его грех меньше, чем грехи обитателей рая. Таким образом, грех главного героя не цель, а средство, которое было использовано автором для выявления более значимых и важных истин. Как представляется, этот вывод подтверждает сравнение с западноевропейскими произведениями на подобный сюжет.
А. Н. Веселовский, рассматривая фаблио, немецкие варианты и «Повесть о бражнике», не случайно называл немецкий вариант «пересказом» [Веселовский, 1880. С. 497], считая их основу «легендой о крестьянине-мель-нике-бражнике» [Веселовский, 1888]. В его поле зрения не столько литературная, сколько устная традиция, тематически связанная с первой. Устную основу и фольклорный способ бытования анекдота и ранней новеллы отмечал А. М. Панченко [Веселовский, 1888; Панченко, 1980], в этой связи и сама проблема оригинального и заимствованного, имеющая для исследователей безусловный интерес, должна трактоваться с учетом специфики времени, среды, жанра.
В средневековой литературе и фольклоре Европы мотив обретения рая – один из распространенных и популярных. Он связан с комплексом христианских представлений о загробной жизни, является одной из основ мировоззрения и существенной частью картины мира. Особенно широко распространен этот мотив в таких жанрах, как видение, проповеди [Гуревич, 1990; Б. И. Ярхо и исследования жанра видений, 1989]. В основе многих средневековых видений, описывающих картину загробного мира, судьбы умерших людей, религиозно-этические проблемы греха и воздаяния, лежат апокрифы. Апокрифы были очень популярны, поскольку приоткрывали завесу тайны над многими неясными местами Священного Писания. Апокрифы и по происхождению и по бытованию были неотъемлемой частью как письменной, так и устной традиции. По мнению А. Н. Пыпина, это объясняет обилие параллелей в восточных и западных легендарных сказаниях [Пы-пин, 1894]. Б. И. Ярхо обратил внимание на существенное отличие латинских средневековых видений от апокрифических: в последних нет ясности и систематичности построения, характерных для первых, в апокрифах ясновидец – лицо священное, а в средневековых видениях это простой человек, современник читателей: «Средневековый ясновидец приближается к тому свету с трепетом и сокрушением; в неведении судьбы своей, в постоянном опасении подвергнуться участи осужденных, в то мерцающей, то гаснущей надежде стать сопричастником блаженства праведных, он дрожит и плачет, умиляется и торжествует» [Б. И. Ярхо и исследования жанра видений, 1989. С. 28].
А. Н. Веселовский рассмотрел легенду о крестьянине-мельнике-бражнике в контексте изменения представлений о грехе и воздаянии в период позднего Средневековья [Веселовский, 1888; 1889. С. 117]. Он показал процесс «приурочения», т. е. постепенное продвижение грешников особого типа в рай в «Божественной комедии» Данте в зависимости от меры их греха. Согласно средневековым представлениям кроме рая и ада для умерших существовал еще лимб (лоно Авраамово), в котором были поселены ветхозаветные пророки, наказанные лишением возмож- ности видеть Бога, пока Иисус Христос их не ввел в рай. Лимб был расположен ближе всего к раю. А. Н. Веселовский проследил, как по мере опустения лимба отцов «средневековая фантазия населяла его новыми жильцами – душами детей, умерших до крещения, и тенями добродетельных язычников» [Веселовский, 1889. С. 88; Гуревич, 1984]. Перемещение происходило постепенно на протяжении средних веков. У Данте некрещеные младенцы и герои древности уже находятся в лимбе, в то время как у Альберика детские души очищаются в первой долине ада, а в «Хождении св. Павла по мукам» язычники, творившие милость, но не познавшие Бога, находятся еще в аду. Данте помещает Вергилия – учителя, поэта и мудреца – в лимбе, «...между желанием и надеждой, его место в аду, как учило и Хождение св. ап. Павла, но он и все великие иноверцы Лимба являются в таком симпатичном и вместе грустном освещении, что оно искупает, не отменяя его, строгий приговор догмата. И это не шаг назад в понимании древности, а прогресс: гуманистическая идеализация взяла перевес над христианской, содержание языческой мысли и поэзии ценится в них самих...» [Веселовский, 1889. С. 93]. А. Н. Веселовский останавливается и на других «нерешенных» дантовского ада, тех обитателях лимба, судьба которых не определена, так называемых «безразличных» или «обоюдных», не безусловно грешных, но и не добродетельных. В «Житии Василия Нового» этому определению отвечает тип милостивого блудника. К этому типу исследователь относит и крестьянина старофранцузского фаблио: «Виллан... в основе своей обоюдный грешник, ныне по-лупонятый в шуточной обработке рассказа», и отмечает распространенность народных пересказов, в которых отразилась «легенда о крестьянине-мельнике-бражнике... преимущественно в смешении с мотивом трех желаний, которые исполняются бедняку (игроку, солдату, кузнецу, мельнику, монаху)» [Там же. С. 102].
Однако герой фаблио ломает стереотип «нерешенного» героя, он сам решает свою судьбу. В фаблио «О виллане, который тяжбой приобрел Рай» [Фаблио…, 1971], который датируется XIII в., рассказывается о том, как после смерти виллана за ним не пришел «ни ангел, ни черт», т. е. согласно определению А. Н. Веселовского душа его дейс- твительно была «нерешенной». Она сама последовала за пролетающим мимо архангелом Михаилом и оказалась перед райскими дверьми. Уже в этом пункте видится новый поворот в трактовке героя: душа не ждет решения своей участи, а сама проявляет инициативу. Пришедший к виллану св. Петр не впускает его, поскольку «подлому люду здесь не быть». Таким образом, мотивировка конфликта в фаблио социальная. Виллан обвиняет св. Петра в том, что тот трижды отрекся от Христа, Фому в маловерии, Павла в избиении св. Стефана камнями, и на этом основании отстаивает свое право быть в раю. Наконец святые идут к Богу, «он им судья». Бог спрашивает, почему душа виллана пришла сама, «без спроса»: «Без приговора никогда / Душа не вступала сюда / Моих апостолов бранил / И упрекал и поносил / И думаешь здесь оставаться?» [Веселовский, 1889. С. 317]. Виллан перечисляет грехи апостолов, рассказывает о своей жизни: «Пока я телом в мире жил / Порядочным и честным слыл / Беднякам свой хлеб отдавал / Днем и ночью дверь открывал / У огня их отогревал», спорит с Богом и ловит его на слове: «Ведь ты сказал когда-то сам / Кто в Рай вступил, век будет там / Так что ж? Ломать мне твой устав?» И Бог был вынужден признать правоту виллана: «Виллан, ты прав, / Ты рассуждал с большим уменьем / Добился рая словопреньем / В хорошей школе был ты, знать / Слова умеешь выбирать». Назидательная концовка гласит: «Притча хочет вас научить / Часто пострадает тот / Кто тяжбой свое не берет / Ведь хитрость правду исказила / Ловкость стала нужней, чем сила» [Там же. С. 319]. Главный герой городской повести, в отличие от «нерешительных», пассивно ожидающих решения своей участи, активен, напорист, в фаблио чувствуется плебейский задор, торжествуют тяжеловесные, но убедительные приемы оппонента из народа. В повести нет указания на какие-либо прегрешения виллана, он – человек благочестивый. Мораль истории, выраженная в концовке, настаивает на правомерности обретения рая простым и в целом добродетельным человеком, на необходимости добиваться своего невзирая на авторитеты.
Нельзя не заметить определенного сходства в словах Бога в фаблио и Костромской редакции «Повести о бражнике», где Глас отвечает св. отцам: «Яко не умели з бражником зговорити...». Но в целом отношение виллана и бражника к церковным авторитетам и к самому Богу различно: дистанция между главным героем и его оппонентами в фаблио значительно короче, сильнее «плебейский задор». Виллан препирается с Богом, тогда как бражник, обличая святых, не только никогда не спорит с Богом, но и не разговаривает с ним, более того, не видит, а только слышит Глас (Костромская редакция). Концовки фаблио и «Повести о бражнике» имеют различия: если в фаблио торжествует плутовская мораль, то в русской повести акцент делается на «человеколюбии». Такая концовка ближе другому произведению с подобным сюжетом, «Отшельнику» А. Галатео.
«Отшельник» Антонио де Феррариса (Галатео) был написан в 1496 г. [Итальянские гуманисты…, 1963]. Герой диалога, по определению благочестивый отшельник, в споре со святыми ведет себя решительно, дерзко, при необходимости может применить и физическую силу. Диалог написан «народной латынью», не отличается совершенством формы, но представляет собой «яркое, в лучшем смысле этого слова народное произведение» [Там же. С. 45]. Главный герой диалога, отшельник – «добрый, или уже во всяком случае не злой» [Там же. С. 303]. И все же, в отличие от бражника, чью душу приносит на небо ангел, за душу отшельника борются злой и добрый духи. Они рассматривают книжки, на которых записаны грехи отшельника (ср. в «Повести о бражнике» в списке РНБ Q.XVII.176: «...и первои добрые дела ее ангел нес с собой и клал в вески против мытарств и от бесов тем душу искупил»). Злой дух в диалоге оказывается хитрее, острее на язык, и добрый отступает со словами: «Хитер ты в споре, ум свой во зло умеешь острый обратить». В ответ на горестные вопли отшельника добрый дух говорит: «Что же мне делать? Я не могу побороть его, хотя считаю тебя хорошим человеком. Не по порокам и добродетелям оценивают людей, а по удаче» [Там же. С. 303]. В определении участи этой вполне добродетельной души присутствует элемент буффонады. Отшельник обманывает злого духа, пинком сбрасывает его со ступенек и прорывается силой в сени рая. Так с помощью аргументов, более подходящих городской площади, а не миру иному, решается судьба души отшельника. Отшельник видит «блаженные рощи», «серебряные стены», «алмазные ворота», чувствует «запах цветов и трав, аромат яблок» [Итальянские гуманисты..., 1963. С. 304] (ср. описание рая в списке РНБ Q.XVII.176: «...Все полаты их зело прекрасны и предивны и преукрашены от злата и сребра и от камения драгого бле-щеся и сияе паче солнечных лучей»). Как и бражник, который противопоставляет себя: «Яз, бражник, пил рано, и за всяким ковшом Господа прославлял», отшельник, имеющий все права на райскую жизнь, «Богу угождал сердцем и речью своей, что ему всего милей» [Там же. С. 303]. Отшельник спорит с апостолами Петром, Павлом, к нему приходят также Авраам, Исаак, Моисей, Матфей, Фома. Его манера ведения спора вызывающая, он даже бранится со святыми. Впрочем, и святые порой не уступают ему. Апостол Петр, например, так говорит отшельнику: «Ах ты, бессовестный наглец, да я ключами тебе все кости переломаю» [Там же]. Сатирическая направленность диалога имеет социальную окраску. Так, отшельник говорит Матфею: «А если я тебя обвиню? Разве за тобой нет никакого греха?» Матфей отвечает: «Ты дерзаешь сравнивать себя со мною?» Отшельник: «А почему бы и нет?» Матфей: «Потому что я евангелист Христа и все, что я говорю, есть священное Евангелие. Все, что я делал и делаю – праведно». Отшельник: «Вот что значит быть влиятельным лицом» [Там же. С. 311].
В диалоге упоминаются многие актуальные для XV в. философские проблемы – атеистические утверждения, под предлогом передачи различных мнений сформулированы представления о гелиоцентрической системе. Но концовка диалога выдержана в традиционном для средневековой народной легенды ключе, в ней прославляется милосердие Богоматери, отразившееся во многих произведениях, в частности, в «Хождении Богородицы по мукам». Фома Аквинский дает отшельнику совет: «...Если не хочешь заискивать, если не умеешь льстить и притворяться – молись деве Марии – она сама истина... она всемогуща, она милостива» [Там же. С. 333]. Отшельник следует этому совету, дева Мария впускает его в рай, отшельник велеречиво благодарит ее.
В диалоге А. Галатео были использованы устные источники, возможно, фаблио. Однако фаблио стало лишь сюжетной основой для воплощения тех идей, которые волновали автора итальянского диалога.
Кроме упомянутых А. Н. Веселовским сюжетов о крестьянине, мельнике, ландскнехтах в немецком фольклоре, имеется немало других примеров в немецкой литературе XVI в. [Фокина, 1997]. Так, в шванках Ганса Сакса «Портной и флаг», «Св. Петр и ландскнехты» [Брандт, 1989. С. 281–283; 374–378] получил развитие мотив об обретении рая, восходящий к фольклору и народным книгам. Однако в отличие от народной книги [Немецкие шванки…, 1990. С. 255– 256], в шванке «Св. Петр и ландскнехты» Г. Сакса ландскнехтов изгнали из рая после того, как в раю солдаты стали играть в кости и драться. Кроме того, в пародийном плане идея возможности посещения рая упоминается в фастнахтшпиле «Школяр в раю» [Там же. С. 396–408]. Встречается в немецкой литературе и мотив пьянства, в частности, сатира «Бражники-гуляки» из произведения Себастьяна Брандта «Корабль дураков» [Брандт, 1989. С. 61–63] содержит осуждение пьянства, но снисходительное отношение к умеренному питию, пьют солдаты в шван-ке «Сатана не пускает ландскнехтов в рай» [Там же. С. 273–276] (ср.: в пьянстве упрекает виллан апостола Павла в фаблио «О том, как виллан словопрением добился рая»). Осуждение пьянства широко распространено в немецкой народной картинке XVI в.
Мотив пития в сочетании с мотивом обретения рая, вероятно, также имел распространение. Во фламандской легенде в переложении Ш. де Костера кузнец Сметсе Смее, любивший пить брёйнбиир (пиво), впал в нужду и продал душу дьяволу лишь за то, чтобы вернуть кузницу, «чтобы не гас в горне огонь» и прожить богато и весело семь лет. Как и ландскнехтов в шванке, черти прогнали его от ворот ада, он прошел чистилище, увидел дорогу к раю и пришел к его вратам. Его встретил св. Петр и на уверения кузнеца в том, что он раскаялся, и на просьбу впустить его в рай, ответил отказом. Но дверь рая была полуоткрыта, и Сметсе проскользнул в щель, снял с себя кожаный передник, сел на него и заявил, что сидит на своем добре и его никто не может согнать. Однако ангелы выставили его из рая, несколько дней он провел у ворот, после чего св. Петр дал ему позволение спуститься на землю, чтобы повидаться с женой и привести в порядок дела. Сметсе немного побыл дома, но затем решил вернуться. Он захватил с собой бочонок брёйнбиира и несколько бутылок вина, «чтобы продавать их тем, кто входит в святой град, а на вырученные деньги покупать себе наивкуснейшую еду» [Костер, 1976. С. 221]. Он устроил кабачок у райской стены, и «в первый же день всяк, входивший в рай, пропускал у него по стаканчику, и все хорошо платили ему – из сочувствия» [Там же. С. 223]. Св. Петр узнал об этом и приказал прекратить торговлю, а самого кузнеца выпороли. Следующая попытка кузнеца попасть в рай вместе с женой вновь не удалась. И только когда вмешался Иисус, Сметсе вошел в рай, причем в качестве своих заслуг, кроме раскаяния, он привел следующий аргумент: «Господи, я всегда с радостью работал, ненавидел лень и уныние, искал веселья и забавы, любил петь песни и с охотой попивал брёйнбиир, посланный мне Богом» [Там же. С. 226]. «Фламандские легенды» Ш. де Костера, написанные в 1857 г., основаны на материале фландрского и брабантского фольклора, автор сам писал, что эти легенды «еще хорошо известны нашему народу» [Там же. С. 257]. В них хорошо просматриваются мотивы европейского фольклора, связанные с темой нашего исследования.
То, что в немецком фольклоре мотив обретения рая мог сопрягаться с мотивом пития, подтверждается в южнонемецкой легенде об Алоизе, переложенной Л. Тома 4. Герой этой легенды попал в рай, ап. Петром ему было предписано ликовать и петь Осанну, но он пел так плохо, что Господь Бог дал ему другое задание – отнести на землю письмо. Он спустился с небес и увидел пивную, зашел, взял одну кружку пива, другую, затем еще – и забыл о своем задании [Thoma, 1970].
Приведенные примеры показывают как общую сюжетную основу, так и ее разные интерпретации в произведениях западноевропейской литературы и в «Повести о бражнике». Можно ли на этом основании считать «Повесть о бражнике» произведением заимствованным? Несмотря на совпадения мотивов повести с рядом перечисленных образцов, «Повесть о бражнике» не вполне соответствует этому понятию. Отношения русской повести к возможным прототипам, которыми мы располагаем, скорее можно определить как «переработку» известных мотивов и сюжетной схемы. Основой для «Повести о бражнике» мог стать тот тип сюжета, который А. Н. Веселовский относил к «бродячим». Не исключена возможность, что будет обнаружен непосредственный источник повести. Однако, как представляется, в «Повести о бражнике» получила развитие традиция трансформации «бродячих» сюжетов, столь характерная для периода позднего Средневековья.
Какого рода источник мог знать автор «Повести о бражнике»: письменный текст или устную версию? Как бы ни казалась маловероятной возможность знакомства с диалогом «Отшельник» русского автора, ее не стоит исключать полностью. В XV–XVI вв. известны многообразные формы общений русских людей с иностранцами, прежде всего торговые [Казакова, 1975]. Города, где процветала торговля, где были созданы предпосылки для формирования городской культуры – вот та среда, которая была восприимчива к новым веяниям. Многонациональные купеческие города Новгород, Псков, Львов были теми местами, где пересекались торговые пути, судьбы, сюжеты 5. Характеризуя многонациональное население Львова, И. И. Голенищев-Кутузов подчеркивал многочисленность итальянцев. Среди итальянцев – арендаторов соляных копей, промышленников, технического персонала, банкиров, купцов – наиболее часто встречались выходцы из Генуи и Венеции [Голенищев-Кутузов, 1963. С. 10]. В Венеции в течение долгого времени жил А. Галатео, знакомый с венецианским гуманистом Эрмолао Барбаро [Итальянские гуманисты…, 1963. С. 42]. Их диалог не был опубликован, однако в кратком пересказе он вполне мог существовать. В списках Краковского, Падуанского, Болонского, Пражского университетов начиная с XV в. «…рядом с польскими именами встречаются имена магистров и студентов из Литвы и Руси» [Голенищев-Кутузов, 1963. С. 11]. Конец XV в. – время активной литературно-публицистической деятельности кружка Новгородского архиепископа Генна- дия, который «…не разделял непримиримой вражды к “латинам”, провозглашенной великим князем». В своей борьбе с еретиками он прибегал к помощи католиков [Казакова, Лурье, 1955. С. 114]. Учитывая культурную, политическую и географическую мобильность этой среды, такой путь также можно рассматривать как случайный, но возможный. Главные черты новгородской ереси конца XV в., по определению Я. С. Лурье, заключались в том, что «это рационалистическая критика христианской догматики (в первую очередь догмата о троице) и отрицание церковной иерархии» [Там же. С. 126]. И в диалоге «Отшельник» и в «Повести о бражнике» разрешается вопрос о сравнительном значении нравственной жизни и формального благочестия, в чем можно заметить отзвук рационалистической идеологии 6.
Но более вероятным представляется другой путь ознакомления русского автора с сюжетом – через устное посредство. Такой путь больше соответствует самому характеру воплощения сюжета. Русский автор использовал опорные моменты сюжета и идею, а тема была подсказана русским материалом. Фактически тот же способ использования сюжета был выбран А. Галатео в «Отшельнике». Не случайно, вероятно, что из всех святых, упомянутых в фаблио и диалоге, в русский вариант вошли только Петр и Павел, остальные: Давид, Соломон, Николай, Иоанн Богослов – были включены русским автором соответственно разрабатываемой проблематике. В устной передаче именно Петр и Павел имели больше шансов запомниться как наиболее известные и «узнаваемые». В этой связи уместно привести пример бытования «Повести о бражнике» в фольклоре. При публикации списка повести А. Н. Афанасьев указывал, что «легенда эта живет в устах народа» [Афанасьев, 1859]. В записях 1845– 1846 гг. П. И. Якушкина в «Журнале пеше-ходца» встречается пересказ повести извозчиком: «Раз один пьяница пришел в рай, где стоял Петра-Павел с ключами от рая. “Пусти, брат, меня в рай,” – говорит пьяница. “Ты сам был кто? Клял господа Бога, а теперь, по милости его, держишь ключи от раю!”. Не- чего было делать Петру-Павлу – пустил пьяницу в рай: он не клял Бога и не отрекался от него» [Собрание народных песен…, 1983].
Приведенный пример свидетельствует о том, что сама форма повести, близкая к анекдоту, была органична в устной передаче, а также о том, что при устном бытовании в народной среде, не знакомой с источниками, история предельно упрощается. Безусловно, эта поздняя запись несет яркий отпечаток фольклорных представлений (контаминация в одном образе двух святых, возможно, от дня св. Петра и Павла). Однако сам пересказ, напоминающий анекдот, с присущими этому жанру лаконичностью, известной упрощенностью, акцентированной идеей «не клял Бога», неожиданным поворотом в концовке, возможно, не так далек от предполагаемого первоначального способа бытования сюжета. Заметим, что и фаблио «...иногда записывалось по памяти в среде жонглеров» [Дынник, 1971], шванки, как и анекдоты, также принадлежат к устной культуре, которая является чрезвычайно характерной и показательной для своего времени.
Итак, можно сделать следующие выводы.
В основу всех повестей, родственных «Повести о бражнике» по сюжетному построению, положена история о том, как герой, находящийся за пределами установленной иерархии отношений, фактически с этой точки зрения маргинальный, нарушает установленный порядок и получает то, что ему не положено, т. е. провозглашается идея относительности устоев, закрепленных в предании, литературных образцах, нормах. Таким образом, утверждается право любого человека на высшее благо в свойственной средневековой системе ценностных представлений – место в раю. В европейской традиции это право провозглашается в основном как независимое от социального статуса (виллан, Отшельник). На место в раю претендуют герои благочестивые, или «обоюдные» (по классификации А. Н. Веселовского, в целом добродетельные, но не без греха, фактически обычные люди).
Если в западноевропейских образцах представлен в основном конфликт социальный, хотя и связанный с нравственным, то в русской повести проблема переведена в иную плоскость: утверждается право грешника, тем самым дается принципиально новая интерпретация известной исто- рии. Появляется этическая трактовка мотива вхождения в рай, причем взрывающая сложившиеся в русской традиции представления. Такому повороту сюжета соответствует образ героя, отраженный в самом раннем списке РНБ Сол. № 1137/1247. Чтение «в нощи на камени спал, Богу ся молил» [РНБ. ОЛДП Q.XVIII], развернутое описание «добродетелей» бражника [РНБ. Q.XVII.176] представляются вторичными, они противоречат словам «не бысть в нем добра Божия» в Сол. № 1137/1247 и являются следующим этапом в осмыслении повести. Характеристику «не бысть в нем добра Божия» мы считаем первичной из сохранившихся списков также потому, что она полемически заострена по отношению не только к отечественной традиции, но и к западноевропейской.
Бражник, входящий в рай за то, что Бога славил, – герой, несомненно, апокрифический. «Неоднозначность» образа, как представляется, была основой его характеристики в архетипе. Возможно, мотив пития, известный в западноевропейской традиции, был учтен русским автором, но ему был придан иной смысл. Пафос «Повести о бражнике» определяет проблема этической состоятельности, независимой от занимаемого положения в сложившейся иерархии отношений. Все остальные характеристики («благочестивое», умеренное пьянство: «пил в праздники и Бога прославлял», коннотации, развивающие добродетели героя: молился и т. п.) являются позднейшими интерпретациями, попытками привести образ героя в соответствие с концовкой или косвенно объяснить ее, ориентируясь на традиционные представления, отраженные в рукописных сборниках. Примером такой трактовки является рассмотренный Е. К. Ромодановской вариант «Повесть о бражнике», встречающийся в сборниках с «Повестью о царе Аггее». Она отмечает, что «Повесть о бражнике» появляется в сборниках с «Повестью о царе Аггее» на рубеже XVII–XVIII вв., переписывается на протяжении XVIII в., а элементом конвоя становится в первой четверти XIX в., «когда создается особая старообрядческая обработка “Повести об Аггее” [Ромодановская, 1992. С. 14]. Исследовательница обращает внимание на особое заглавие «Повести о бражнике» в последнем случае («Книга Беседы Евангельския, глава 24, выписано о пияницах и о бражниках, слово 19») и на то, что повести об Аггее, о бражнике, о старце, просившем руки царской дочери, в двух сборниках (в третьем – два первых) объединяет тема Евангелия. Е. К. Ромодановская приводит характерную приписку, подтверждающую ее вывод о том, что тема Евангелия в «Повести о бражнике» могла быть основной для читателей [Там же. С. 15].
Редакции и варианты «Повести о бражнике» в списках XVII в. отражают разное отношение читателей и редакторов к проблеме, поставленной в повести, и связанные с этим характеристики главного героя. Неизвестный автор «Повести о бражнике» хорошо знал русскую литературную традицию, несомненно, был знаком и с рассмотренными вариантами сюжета (или неизвестным пока произведением, послужившим непосредственным источником повести) западноевропейской литературы. Знание источников показывает широкую образованность и литературную культуру создателя архетипа. Сборники, обнаруживающие преемственность в составе [РНБ. Сол. № 1137/1247; ГАКаО. № 916; ГАКоО. № 7; ГАКаО. № 1540; РНБ. Q.XVII.176], дают представление о круге чтения лиц, стоявших у истоков литературного развития Повести [Археографический обзор…, 1995]. Автор разделял взгляды, близкие к реформационным, остроумно развил идею о вхождении в рай бражника-грешника в русле полемических традиций словопрения (прием цитирования).
Литературная история «Повести о бражнике» указывает на более раннее, чем датировка самого раннего списка (начало XVII в.), происхождение. Возможно, повесть была написана в конце XV в. Кроме связей с реформационными идеями повесть имеет ряд художественных особенностей, сближающих ее с памятниками того времени («Повесть о Басарге», «Повесть о Дракуле», «Повесть о старце, просившем руки царской дочери» и др.). «Повесть о бражнике» имеет новеллистическую структуру, главный герой – «премудрый» бражник (или «начетчик и искатель глубины разума» в редакции РНБ Q.XVII.176) (ср. Борзосмысл из «Повести о Басарге»). Повествовательная структура повести напоминает «Повесть о Дракуле» и «Повесть о Басарге», в которых «сюжетная схема, заимствованная из фольклора, была дополнена рядом сюжетных мотивов письменного происхождения» [Лурье, 1970а.
С. 374], «фабулы и сюжетные схемы “Повести о Дракуле”, “Повести о Басарге” и “Повести о старце” основывались на международных бродячих мотивах» [Лурье, 1970а. С. 366], все эти произведения «и по фабуле и по построению близкие к памятникам позднесредневековой прозы (и к “народным книгам” XV–XVI вв.)» [Там же. С. 375]. Содержание «Повести о старце» включает подтверждение истинности евангельских строк, первые среди которых гласят: «Толцыте – отврьзется вамъ, просите – и дастъся вам, и ищите – обрящете» [Памятники литературы…, 1984] (ср. бражника, последним аргументом которого в диалоге с Иоанном Богословом стала ссылка на строки из Евангелия о любви к ближнему). Кроме того, в характеристике героя «Повести о бражнике» присутствует и такая черта, характерная для героев русской беллетристики XV в., как неоднозначность, противоречивость 7.
Рукописей XV в. упомянутых беллетристических повестей сохранилось очень мало 8. Их поздняя рукописная традиция показывает, что редакторские правки касались, прежде всего, неоднозначности героев. В списках повестей XVII в. отмечается стремление «выпрямить» сюжет, внести назидательность [Лурье, 1970а. С. 383–384].
Как известно, в XVI в. отношение к «неполезным повестям» и «небожественным писаниям» было нетерпимое [История русской литературы, 1980; Лурье, 1970б], поэтому у «Повести о бражнике», имевшей приметы вольномыслия, было не много шансов сохраниться, что подтверждает пример монастырской цензуры в Соловецком сборнике. Разные толкования образа главного героя в редакциях XVII в., а также первой половины XVIII в. свидетельствуют об активной позиции читателей. Эволюция текста в литературной истории повести шла по пути упрощения, сокращений и ошибочных прочтений [Фокина, 1995. С. 134–157]. Ждановская редакция с поучительной концовкой по многим параметрам сходна с поздними редакциями и вариантами. Интерпретация образа главного героя и конфликта в этой редакции далека как от предполагаемого архетипа, так и от рассмотренных западноевропейских произведений.