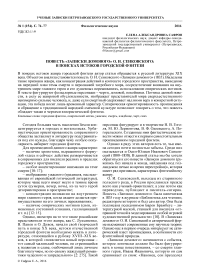Повесть «Записки домового» О. И. Сенковского: в поисках истоков городской фэнтези
Автор: Сафрон Е.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (154), 2016 года.
Бесплатный доступ
В поисках истоков жанра городской фэнтези автор статьи обращается к русской литературе XIX века. Объектом анализа становится повесть О. И. Сенковского «Записки домового» (1835). Выделены такие признаки жанра, как концентрация действий в контексте городского пространства, выведение на передний план темы смерти и персонажей загробного мира, сосредоточение внимания на внутреннем мире главного героя и его душевных переживаниях, использование онирических мотивов. В тексте фигурируют фольклорные персонажи - черти, домовой, покойники. Поэтика данной повести, в силу ее жанровой обусловленности, изображает представителей мира сверхъестественного неизмеримо сильнее человека, и, даже если смертный одерживает над ними верх в конкретной ситуации, эта победа носит лишь временный характер. Сатирическая ориентированность произведения и обращение к традиционной народной смеховой культуре позволяют говорить о том, что повесть обладает также и чертами юмористической фэнтези.
Городская фэнтези, онирический мотив, ужасное, смерть, кладбище, черт, смех
Короткий адрес: https://sciup.org/14751030
IDR: 14751030 | УДК: 82-1/-9
Текст научной статьи Повесть «Записки домового» О. И. Сенковского: в поисках истоков городской фэнтези
Сегодня большая часть населения Земли концентрируется в городах и мегаполисах. Урбанистическая ориентированность современного общества заставляет и литературу подстраиваться под его нужды, благодаря чему особую популярность набирает городская фэнтези.
Для произведений данного жанра характерно:
– наличие хронотопа, выраженного формулой «здесь и сейчас»: действие разворачивается в современных для писателя реалиях в пределах городского пространства;
– особое акцентирование внимания на теме смерти [10: 17];
– изображение ужасного (традиция, наследованная от европейской готической литературы), которое чаще всего имеет место в темное время суток (сумерки, вечер, ночь), из-за чего герой дезориентирован в пространстве;
– концентрация внимания на внутреннем мире главного героя, когда акцент делается преимущественно на его личных переживаниях;
– наличие онирических мотивов (снов, измененных состояний сознания, галлюцинаций и т. п.) [12: 15].
Однако, несмотря на то что такие российские представители этого жанра, как С. Лукьяненко, В. Панов и О. Дивов, начали свой творческий путь в конце ХХ века, истоки отечественной городской фэнтези необходимо искать в литературе, относящейся к рубежу XVIII–XIX веков, в которой «появляется новый персонаж – тот самый маленький человек, не стремящийся к подвигам и славе, озабоченный лишь личным благополучием, но по-своему жаждущий романтики чудесного и запредельного» [2: 275]. Такой
персонаж фигурирует и в творчестве Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Одоевского, А. Погорельского. Созданные ими фантастические повести можно отнести к первым самостоятельным произведениям городской фэнтези.
Однако в ряду этих авторов есть те, чьи имена сегодня почти полностью забыты. Среди них оказывается и Осип-Юлиан Иванович Сенков-ский (1800–1858). В данной статье мы бы хотели обратиться к его повести «Записки домового (рукопись без начала и конца, найденная под голландскою печью во время перестройки)», которая имеет ряд признаков, характерных фэнтезийному жанру.
О. И. Сенковский, выходец из старинного польского рода, в России прославился прежде всего как ученый-ориенталист, а уже потом как переводчик, публицист и писатель-сатирик. Повесть «Записки домового» была напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения», редактором которого и был сам автор. Она была подписана псевдонимом Барон Брамбеус – литературной маской, ставшей для писателя «отправной точкой в моделировании особой игровой художественной реальности» [10]. В «Записках домового» О. И. Сенковский в сатирической форме высмеивает современные ему научные теории. Однако нас в первую очередь интересует не сатирический пласт произведения, а особенности его фэнтезийной природы.
«Записки домового» начинаются с события, которое логически должно бы было фигурировать в конце повествования, – со смерти главного героя, Ивана Ивановича, которую он сам сравнивает со сном: «Наконец, сон преодолел меня – меня, то есть мой мозг, все, что от меня осталось в живых, – и я уснул самым крепким и роскошным сном, какого никогда еще не испытывал в жизни. Это была смерть» (369)1.
Использование специфического онирического мотива, где сон приравнивается к смерти, освобождает писателя от обязанности следовать реалистическому принципу повествования и позволяет описывать те приключения героя, которые в иной ситуации были бы невозможны, – приключения, происходящие в загробной жизни. Так О. И. Сенковскому удается стереть границы между реальностью и потусторонним миром и населить пространство повести фантастическими персонажами: «чертом журналистики» (372) Бубантесом, домовым Чуркой и покойниками. Имя героя говорящее: оно отсылает нас к фольклорному образу Ивана-дурака (особо подчеркнем, что Бубантес постоянно обвиняет героя в глупости и простоте: «Здешние мертвецы набитые невежды» (384), «этот мертвец ничего не понимает» (386)). Наивность Ивана Ивановича носит сказочный характер («“придуривание” героя способствует предельному обнажению порока в окружающем его микромире зла и облегчает конечную победу над ним» [7: 17]): по сюжету повести Иван Иванович обретает новую, соответствующую его статусу покойника любовь, а черт Фифи-коко, глава супружеского ведомства, бодает Бубантеса в бок и вынуждает его с позором бежать во Францию.
Город, в котором живут герои О. И. Сенков-ского, никак не обозначен. Можно предположить, что подчеркнутая «анонимность» топоса, где обитают мертвецы и домовой, позволяет автору в шуточной форме изобразить всю Россию как место концентрации сверхъестественных сил: описанный инцидент мог происходить в любом городе страны.
Изображаемые писателем события происходят в двух локусах: в доме Ивана Ивановича, где обитают живые, и на кладбище, то есть в доме мертвецов, граница между которыми становится прозрачной именно благодаря фигуре черта Бу-бантеса. Кладбище выписано автором с соблюдением традиций народной смеховой культуры – это мир «кромешный, изнаночный», в котором, по словам Д. С. Лихачева, «перевертываются все отношения, все предметы» [5: 360]. В качестве иллюстрации можно упомянуть разговор героев о двух влюбленных друг в друга покойниках: «Любопытно было бы знать ход этого кладбищенского романа.
– Что тут любопытного? <…> Лягут в могилу, да и будут целоваться» (397).
Основное действие повести происходит ночью, причина этого кроется в природе изображаемых О. И. Сенковским персонажей: сущность представителей «иного» мира противна Богу и созданному им миру людей, не выносит дневного света:
Черт Бубантес : «Поди ты так, дня через три, на кладбище да узнай, что там делается <…> я сам пошел бы! <…> Ты понимаешь, что это не по лености…
Домовой Чурка : – А потому, подхватил я, смеясь его уверткам, – что там много крестов» (397);
«Он потащил меня к столику и напомнил мертвецам, что скоро начнет светать. Они торопливо вскочили со стульев и простились с нами» (396).
Вместе с тем вышеперечиcленные герои уверены в своем превосходстве: «У людей нет толку ни на копейку», «Люди – большие ослы» (400).
Данные цитаты демонстрируют принцип расстановки сил, традиционно изображаемый в городской фэнтези: представители мира сверхъестественного оказываются сильнее человека, и, даже если смертный одерживает над ними верх в конкретной ситуации, автор произведения подчеркивает, что эта победа носит лишь временный характер.
О. И. Сенковский создает атмосферу «ужасного» благодаря введению в текст фольклорных легенд и поверий о мертвых [6: 168–169]: упоминается «привычка» покойников «просиживать по целым ночам в спальнях, подле прежних своих возлюбленных, и потихоньку прикладывать свои холодные поцелуи к их горячим спящим устам» (379–380), а также свойство сохранять прижизненные пристрастия и после кончины: «Вы позволите мне сидеть здесь <…> это мое любимое место <…> Мертвец погрузился в красные вольтеровские кресла» (375) и далее: «Старуха при жизни страх любила бостон. Я думаю, что бостон тоже остается в костях!» (389).
Кроме того, еще один персонаж из мира усопших, Акулина Викентьевна, в одном из эпизодов признается, что «отправилась со скуки в город с намерением ущипнуть бывшую свою горничную, которая спала в доме недалеко отсюда» (389).
Иван Иванович и Акулина Викентьевна предстают перед читателями в виде не бесплотных духов, а скелетов. Гипертрофированная «телесность» персонажей вписывается в концепцию смехового мира, создаваемого писателем: согласно традиционным народным верованиям, душа покидает тело после смерти (только если речь не идет о заложном покойнике, то есть «умершем преждевременно неестественной смертью» [4: 19], а из текста повести известно, что, по крайней мере, один герой – Иван Иванович – умирает после продолжительной болезни), однако у О. И. Сенковского душа Ивана Ивановича продолжает жить в том, что остается после гниения плоти, – в костном остове.
Выскажем предположение, что в связи с этим образом автор предлагает и новый загробный канон красоты: «большой – кости толстые и белые, как снег – ни одного изломанного ребра – осанка благородная и приветливая» (393) – в противовес облику возлюбленной покойного: «желтом, перегнившем, изувеченном, одноногом остове этой бабы» (393); «Когда она говорила или, точнее, ревела, ее челюсти раздвигались так широко, как у крокодила, и смыкались так быстро, как ножницы в руке портного, производя при каждом слове страшное хлопанье костями <…> Ужаснее и отвратительнее этого я [домовой Чурка] ничего не запомню по нашему сверхъестественному миру» (391).
Знакомство будущих влюбленных происходит на городском кладбище: когда гроб Ивана Ивановича разваливается от старости, его соседка Акулина Викентьевна начинает «толкать его, бранить, щипать, кусать и говорить, что он мешает ей лежать спокойно, что он стеснил ее обиталище» (378). С позиции славянских верований такая «ссора» вполне закономерна: наши предки были убеждены в том, что в первую же ночь после похорон ранее ушедшие на тот свет мертвецы начинают гнать новичка из его могилы, а он, в свою очередь, должен отстоять свои права на это место [6: 169].
Фэнтезийная поэтика повести определяется также и ее игровой природой: мертвецы и живые люди напоминают марионеток, действия которых подчиняются действию животного магнетизма, «поляризации» (387) и прихотям нечистой силы, а в первую очередь, черта Бубантеса, который напоминает Петрушку из кукольной комедии [11]. Для него остальные персонажи – «не личности, а вещи, которые следует изломать и заглянуть внутрь» [3]: «Тут нужно подбавить сильных ощущений, великих чувствований, больших несчастий: тогда только можно будет смеяться. Надобно, во-первых, чтобы какой-то благородный юноша влюбился в твою [домового Чурки] вдову. <…> А между тем не худо было бы возбудить ревность в жене Аграфова. Это необходимо для занимательности» (405). Корни подобного образа нужно искать в мифологической фигуре трикстера, антагониста и alter ego культурного героя-добытчика, чьи поступки часто интерпретируются как пародия на действия последнего.
Акцентирование внимания на семейных ценностях, традиционно свойственное по преимуществу всем жанровым разновидностям фэнтези [1], реализуется О. И. Сенковским благодаря Бубантесу, который восстанавливает мир между покойниками. В связи с этим считаем уместным вслед за Е. М. Нееловым говорить о том, что данная повесть как носитель фэнтезийной традиции реализует особую концепцию семейственности [9: 161–162], характерной для фольклорной волшебной сказки, в которой понятия «мир» и «семья» взаимообусловлены.
Подводя итоги, подчеркнем, что реализация принципов фэнтезийной поэтики позволяет признать за О. И. Сенковским право считаться одним из основателей этого жанра в России. Несмотря на то, что образ города как таковой в тексте анализируемой повести не фигурирует, «Записки домового» обладают всеми чертами, свойственными городской фэнтези. Сатирическое изображение современных писателю научных теорий, использование элементов народного площадного театра, комическое изображение покойников и традиционных обитателей ада позволяют говорить о том, что данная повесть обладает также и чертами юмористической фэнтези [8], когда «смешное» в тексте компенсирует уровень концентрации «ужасного».
Список литературы Повесть «Записки домового» О. И. Сенковского: в поисках истоков городской фэнтези
- Сенковский О. И. Записки домового//Белое привидение: Русская готика. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 316-07
- Белова Ю. Р. К вопросу о написании славянской фэнтези . Режим доступа: http://zhumal.lib. ru/b/belowa j_r/slavjandoc.slitml (дата обращения 7.02.2011).
- Гончаров В., Мазова И. Мифология мегаполисов//Если. 2004. № 9. С. 275-286.
- Греф A. Homo Primitivus. Петрушка как феномен примитивного сознания . Режим доступа: http://www.booth.ru/petrashka/articles/gref_homoprim.shtml (дата обращения 2.08.2015).
- Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1917-1934. М.: Индрик, 1999. 352 с.
- Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси//Избранные работы: В 3 т. Л.: Худ. лит, 1987. Т. 2. С. 343-417.
- Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.52с.
- Лупанова И. И. Иванушка-дурачок в русской литературной сказке XIX века//Русская литература и фольклорная традиция: Сб. Волгоград: Изд-во ВЕЛИ им. А. С. Серафимовича, 1983. С. 16-36.
- Невский Б. Жанры. Юмористическая фантастика. Эта веселая планета. Комическая фантастика//Мир фантастики. 2006. Июль. № 35 . Режим доступа: http://old.mirf.ru/Articles/printl383.htm (дата обращения 3.02.2016).
- Неёлов Е. М. О жанровом содержании «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина//Евангельский текст в русской литературе ХѴПI-ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. трудов/Редкол.: В. И. Захаров и . IIетрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 149-162.
- Тозы якова Е. А. Традиции народной городской зрелищной культуры в «Фантастических путешествиях барона Брамбеуса» О. И. Сенковского . Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-naroc3noy-gorodskoy-zrelischnoy-kultury-v-fantasticheskih-puteshestviyah-barona-brambeusa-o-i-senkovskogo (дата обращения 23.07.2015).
- Уваров М. С. Поэтика Петербурга: очеркипо философии культуры. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 252 с.
- Шарапенкова Н. Г. Роман «Москва» Андрея Белого: от Хаоса к Космосу: Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 158 с.