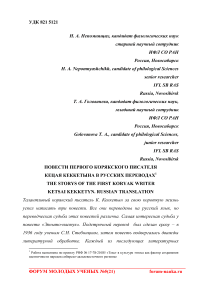Повести первого корякского писателя Кецая Кеккетына в русских переводах
Автор: Непомнящих Н.А., Голованева Т.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-2 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
Талантливый корякский писатель К. Кеккетын за свою короткую жизнь успел написать три повести. Все они переведены на русский язык, но переводческая судьба этих повестей различна. Самая интересная судьба у повести «Эвныто-пастух». Подстрочный перевод был сделан сразу - в 1936 году ученым С.Н. Стебницким, затем повесть подвергалась дважды литературной обработке. Каждый из последующих литературных редакторов: и Ю. С. Рытхэу, и В. Д. Дудинцев - обходятся с повестью очень бережно, в ней сохранен узнаваемый стиль самого К. Кеккетына. Однако финал повести был содержательно изменен.
Корякская литература, проблемы художественного перевода, кецай кеккетын
Короткий адрес: https://sciup.org/140282829
IDR: 140282829
Текст научной статьи Повести первого корякского писателя Кецая Кеккетына в русских переводах
Ketsai Kekketyn, a talented Koryak writer, managed to write three novels in his short life. They are translated into Russian, but these translations have their own lives, which are of significant interest. The most interesting is the fate of the novel "Evnyto-pastukh". The word for word translation was made by scholar S. N. Stebnitsky at once, in 1936. Then the story was twice subjected to literary adaptations. Both following literary editors, Y. S. Rytkheu and V. D. Dudintsev, treated the novel very carefully, it retained a recognizable style of the writer. However, the ending of the novel was distorted.
Стиль талантливого писателя обладает своими индивидуальными чертами, что как раз и составляет неповторимость, уникальность, непредсказуемость художественного текста. Именно поэтому главной сложностью художественного перевода всегда становится сохранение стилистики оригинального авторского произведения: в идеале перевод не должен трансформировать авторский стиль. Особую сложность представляют переводы с языков малочисленных народов Сибири и Севера на русский литературный язык, поскольку в этих языках, помимо совершенно иных принципов синтаксиса и грамматики, существенно отличается и сам тезаурус – лексика. Иногда слова не имеют той множественности переносных значений, что в русском, а также часто им просто нет точного русского эквивалента, потому что в быту отсутствуют сами понятия и явления, описываемые национальными языками. В этих условиях перевод на русский язык в большей степени становится ориентирован на передачу содержания текста, так как во главу угла ставится задача познакомить читателя с новой для него действительностью. Однако художественная форма неотделима от особенностей того национального языка, на котором создано произведение. Конечно, в идеале читать художественные тексты надо на том языке, на котором они написаны, но в реальности это не всегда возможно, зато возможно проследить и понять, каким образом тот или иной перевод «работает» с тестом-источником, какие искажения происходят в процессе, какие новые смыслы в него вкладывает и добавляет тот или иной переводчик.
Талантливый корякский писатель Кецай Кеккетына за свою короткую жизнь успел написать три повести. Все они переведены на русский язык, но переводческая судьба этих повестей различна. И самая простая – у последней повести Кецая Кеккетына «Хоялхот».
Повесть «Хоялхот» была опубликована в 1939 г. В этой же книге был помещён перевод повести на русский язык, выполненный С. Н. Стебницким [3]. Перевод С. Н. Стебницкого опубликован и в камчатском издании 2010 г. [2, С. 77–120].
Переводческая судьба второй повести Кецая Кеккетына «Последняя битва» («Непобежденные») более замысловата. Трудно объяснить почему, но историческая повесть Кецая Кеккетына была издана в 1936 г. без перевода, хотя перевод повести был подготовлен С. Н. Стебницким2. Возможно, содержание повести настолько не укладывалось в рамки социального заказа, что опубликовать русский перевод повести означало бы подписать приговор и автору, и переводчику. Впервые русский перевод повести Кецая Кеккетына «Последняя битва» был опубликован спустя 74 года после создания произведения. В 2005 году корякская журналистка
Екатерина Ивановна Дедык начала переводить повесть на русский язык. Подготовленный Е. И. Дедык перевод был опубликован в книге, приуроченной к 90-летию корякского писателя [2, с. 172-200].
Самая невероятная переводческая судьба у первой повести Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак». Повесть впервые была издана на корякском языке в 1936 году. Тогда же С. Н. Стебницким был подготовлен и издан подстрочный перевод на русский язык, роль которого, по мысли самого Стебницкого, была во многом служебной: «Настоящий перевод имеет узко практическое назначение – помочь разобраться в корякском тексте книги тем из русских работников на местах (в школах, политпросветительных организациях, библиотеках и др.), которые не овладели еще в достаточной мере корякским языком» [1, с. 4]. Однако именно переводу Стебницкого суждено было стать основой для всех последующих литературных обработок корякского текста и, по сути, русским вариантом повести. В первом издании произведение «Эвныто» характеризуется как “рассказ”, но по своему сюжету и объему произведение гораздо в большей степени соответствует жанровому определению повести: перед читателем разворачивается продолжительный отрезок из жизни героя, причем в результате происходящих событий и герой, и описываемая действительность претерпевают существенные изменения.
В первом издании русского перевода повести «Эвныто-батрак» в самом начале произведения проговорена его сугубо практическая задача – рассказать о прежних временах и о тех переменах, что происходят в жизни коряков: «Здесь я пишу о том, как наши богачи обращались с бедняками при царе. Здесь я пишу о том, как Эвныто был угнетен при старом законе богачом. И как его потом избрали председателем при новом законе, и он начал учиться в Тигиле, чтобы хорошо новую жизнь строить» [1, с. 9]. В последующих переводах этот фрагмент был изъят из текста повести, по-видимому, как слишком прямолинейный отсыл к идеологической окраске эпохи.
Все русскоязычные варианты повести опираются на подстрочный перевод С.Н. Стебницкого 1936 года, во многих местах дословно его повторяя. Поскольку никто из писателей, работавших с повестью, не владел корякским языком, то и переводить самостоятельно ее не мог. Работа с подстрочником - вполне оправданная практика в издании произведений писателей коренных народов Севера и Сибири. Степень вмешательства «литературных мэтров» в первоисточник невелика. Главным образом литературной обработке подвергается стилистика: лексика, порядок слов, некоторые синтаксические конструкции. С. Н. Стебницкий при переводе стремился сохранить все особенности первоисточника, по возможности, даже порядок слов, сделав его максимально удобным для параллельного чтения на двух языках, поскольку мыслил свой перевод не литературным, а вспомогательным при обучении корякскому языку: «Перевод этот почти дословный, подстрочный и потому лишь в слабой степени отражает художественные свойства оригинала. Но дальнейшая обработка неизбежно сделала бы его не вполне подстрочным и тем затруднила бы практическое пользование им как пособием при чтении корякского текста повести» [1, с. 4].
Каждый из последующих литературных редакторов: и Ю. С. Рытхэу, и В. Д. Дудинцев - обходятся с повестью очень бережно, в ней сохранен узнаваемый стиль самого К. Кеккетына: короткие фразы, интонация устного рассказа, обращенного сразу ко многим слушателям. Правка носит в основном лишь стилистический характер. Основная сложность заключается в том, что корякский текст очень ёмкий и лаконичный. Те же самые фразы, сказанные по-русски, становятся много пространнее, - и это свойство самого языка, а не только повести. В целом при обработке у В. Д. Дудинцева фразы длиннее, чем у Ю. С. Рытхэу: у чукотского писателя при сохранении всех деталей изложение получается максимально сжатым, кратким и потому наиболее близким к подлиннику. Это особенно хорошо видно в сравнении.
Перевод С. Н. Стебницкого: «У Чачоля было десять работников. Акко! Табун большой, как кедровая чаща» [1, с. 9].
В литературной обработке писателей получается немного иначе:
Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.): « У Чачоля было десять работников. Акко! А стадо у него большое – издали казалось, что по тундре движется кедровая чаща» [4, с. 63]
Перевод В. Д. Дудинцева: « У Чачоля было десять работников. Акко! Жить можно, не правда ли ? А стадо у него было огромное – издали казалось, что это кедровая чаща сдвинулась с места и движется по тундре» [5, с. 117]
О работе В. Д. Дудинцева над переводом повести есть такое свидетельство: «Когда Дудинцеву уже совсем стало невмоготу, власть дала ему разовый заказ на перевод. В 1961 году писателю официально разрешили под своим именем отредактировать подстрочник написанной ещё до войны повести корякского писателя Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак»3. Стиль В. Д. Дудинцева приближает текст корякского писателя Кецая Кеккетына к той повествовательной манере, которая свойственна русской литературе. Плавность перехода от одного образа к другому создаётся в переводе В. Д. Дудинцева детальным описанием воображаемой картины. Как это ни парадоксально, но в авторском тексте Кецая Кеккетына действительность предстает в более реалистичном виде, чем у его переводчиков.
Перевод С. Н. Стебницкого: « Перед ними (вдали) показались горы, покрытые снегом. Справа совсем далеко виднеется Чичилян. Отсюда смотреть – Чичилян как конское седло» [1, с. 9].
Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.): «Перед пастухами вдали показались горы, покрытые снегом. Справа виднелся Чичилян, похожий на конское седло. Вершины его казались отсюда людьми, стоявшими во весь рост» [4, с. 63]
Перевод В. Д. Дудинцева: « Перед пастухами вдали показались горы, покрытые снегом. Сначала вылезли две вершины, словно два человека встали пастухам навстречу, а потом поднялся и весь Чичилян, похожий на конское седло» [5, с. 118]
Создаётся ощущение, что переводчики стремились приукрасить прозу Кецая Кеккетына, перевести бытописание в игру фантазии.
При переводе изменения коснулись не только стиля писателя, но и содержания художественного текста. В советских изданиях корякской повести на русском языке содержательной переработке подверглась вторая часть произведения. В версии В. Д. Дудинцева и в версии Ю. С. Рытхэу в повести 16 глав. В оригинале – 17. В сравнении с подстрочником С. Н. Стебницкого, у которого 17 глав, становится видно, что в советских переводах повесть частично сокращена. У В. Д. Дудинцева совсем выброшена из текста оригинальная глава 14, вместо нее идет сразу следующая. В переводе Ю. С. Рытхэу текст 14 главы сохранен, однако 15 и 16 главы объединены в одну, при этом 15 глава сокращена.
Финал повести в переводах Ю.С. Рытхэу и В.Д. Дудинцева не совпадает с финалом авторского текста Кецая Кеккетына.
Итак, в оригинале повесть заканчивается следующим образом. По возвращении через два (а не три, как в последующих переизданиях) месяца из Тигиля Эвныто собирает батраков и объясняет им, как следует жить «по новому закону». Его поддерживают остальные батраки, они вместе строят планы на будущее лето, думают, как будут совместно трудиться: рыбачить, «летовать», охотиться и делить на всех добытое. Со дня на день ждут из Тигиля «пишущего человека», который поможет распределить заработанных у хозяина оленей, он должен записать «кто сколько заработал у Чачоля». Остальные батраки отвечают, что Эвныто прав, а Чачолю предлагают отделиться самому. Этими строками повесть заканчивается.
Как видим, батраки, пожелавшие жить по-новому, вовсе не желают никакого зла бывшему хозяину, просто хотят, чтобы тот впредь не имел к ним никакого отношения.
В наши дни последнее предложение первой авторской повести Кецая Кеккетына воспринимается с оттенком трагичности. Богатых оленеводов в 1930-е гг. увозили в неизвестном направлении. Конечно, об их судьбе догадывались. «Будущей зимой» Чачоля уже не будет среди кочевников, его вообще не будет. Кецай заканчивает свою повесть почти фантастическим и в какой-то степени даже оптимистичным финалом, если в такой ситуации был возможен оптимизм.
В советских переизданиях русского перевода повести «Эвныто-батрак» финал выглядит совершенно иначе. Финал повести, представленный в версиях Ю.С. Рытхэу и В.Д. Дудинцева, совпадает дословно: « Пролетело три месяца. Эвныто в это время научился немного читать и говорить по-русски. Но самое главное: он теперь знал, как нужно строить новую жизнь и что делать с Чачолем. Об этом он и пел, подъезжая к своему стойбищу.
- Теперь бедняки сами хозяева жизни, - пел он. - Мы скажем Чачолю, чтобы заплатил нам за все долгие годы тяжкого труда. Мы отберем у него наших оленей - они все выращены нами. Эвныто больше не слуга богача, он хозяин жизни и не боится богачей. Он будет помогать людям с красными звездами устанавливать новый справедливый закон. И чем ярче разгорался огонек родного стойбища, тем громче пел Эвныто ». [4, с. 39].
Автором переделки финала скорее всего был Ю. С. Рытхэу, поскольку он раньше В. Д. Дудинцева стал редактором перевода повести – в его редакции повесть выходит в 1958 году [4]. Этот же финал слово в слово представлен и в книге повестей Кецая Кеккетына, изданной в Петропавловске-Камчатском в 2010 г. [2, с. 136] При этом в издании 2010 г. указано, что перевод с корякского языка сделан Г. Н. Харюткиной.
Парадокс заключается в том, что в авторском тексте Кецая Кеккетына финал совершенно другой.
Оставим в стороне тот момент, что в авторском варианте повести главный герой - батрак Эвныто вообще ни разу не изображен поющим. Возможно, тот, кто переделывал финал, хотел подчеркнуть, что душа героя, до революционного момента практически «немого», не смевшего слова поперек сказать, вдруг запела, но тем самым переделывающий повесть еще раз выдал себя. По стилистике этот заключительный пассаж не соответствует всей остальной стилистике повести. В нем сказано то, что должен был сказать идеологически подкованный автор в шаблонном романе о «перековке», о рождении «нового человека»: неразумный, всего боявшийся дикарь, угнетенный бедняк в результате трех месяцев учебы становится сознательным помощником советской власти, начинает осознавать себя «хозяином жизни».
В версиях Ю. С. Рытхэу и В. Д. Дудинцева иначе, нежели в оригинале, говорится и о судьбе Чачоля. В авторском финале Кецая Кеккетына все вместе бедняки решают, что через год Чачоль должен отделиться и кочевать сам. Лишь в одной фразе перед возвращением домой у Эвныто проскакивает некоторая угроза, когда Эвныто предлагает отвезти Чачоля в Тигиль заготавливать дрова для школы, если тот вопротивится. Разумеется, это не самое гуманное решение, но, все же, в последующих речах героя, уже дома, на стойбище, нет и намека на какую-то более суровую расправу. Это совершенно не то же самое, что зловещая фраза о том, как он знал, «что делать с Чачолем » . Если не знать всего контекста, то можно решить, что в переделанной версии Чачоля ждет неизбежная расправа - финал открыт, о его судьбе ничего не сказано.
В советских источниках справедливо подчеркивается, что борьба за установление советской власти была непростой4. Однако репрессивных настроений по отношению к своим соплеменникам у самого коренного населения не было, и это очень четко видно по авторскому финалу повести Кецая Кеккетына. Немаловажной является такая деталь: в авторском тексте повести новый председатель Эвныто говорит о том, что нужно подождать несколько дней, пока приедет «пишущий человек» из Тигиля (секретарь), который запишет, кому из работников сколько оленей причитается за работу. «Пишущий человек» – это, разумеется, не коряк, а русский, какой-нибудь начальник, чиновник, партийный работник, который прислан проводить линию партии среди коренного населения. То есть распределение ресурсов производить будет не само общество, не бедняки-пастухи, а опять же пришлый, чужой человек, пусть и с их одобрения, но не свой. В переиздании этой детали нет. Там просто ничего конкретного не говорится о новой системе ведения хозяйства, а лишь в самых общих фразах предполагается, что дальше будет делать Эвныто.
Финал повести остается открытым: неясно, какое будущее ждет Эвныто, какой именно будет новая жизнь. Даны лишь общие смутные, но весьма оптимистичные очертания совместного ведения хозяйства. Причем оленеводы ничуть не сомневаются, что сохранят свой исконно кочевой образ жизни. Но жизнь оказалась не во всем совпадающей с теми ожиданиями, которые высказаны Кецаем Кеккетыном в книге от имени кочевников. Еще одна причина заменить настоящий финал фальшивым.
Авторский текст повести конкретнее в изображении тех деталей, которые передают изменения, происходящие в корякском оленеводческом стойбище на рубеже 1920-х – 1930-х гг. В отличие от последующих литературно обработанных переводов в подлинном тексте Кецая Кеккетына гораздо больше деталей, которые важны для понимания того, как коренное первоначально тормозили объединение хозяйств в колхозы. Однако вскоре трудящиеся коряки, убедившись в преимуществах коллективного хозяйства и распознав подлинное лицо богачей-оленеводов, прочно вступили на путь коллективизации»4. Коряки // Народы Сибири. М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. С. 966.
население воспринимало происходящие в их стойбище перемены – отголоски революционного потрясения огромной страны.
Список литературы Повести первого корякского писателя Кецая Кеккетына в русских переводах
- Кецай Кеккетын. Эвныто батрак. Рассказ. Перевод с корякского языка. Приложение к книжке. Л.: ЦК ВЛКСМ Издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1936.
- Кеккетын К. Эвныто-пастух: Повести. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2010.
- Х. К. Хоялхот: Рассказ / Под ред. С. Н. Стебницкого. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939.
- Эвныто-пастух. Пер. С. Стебницкого, лит. обработка Ю. Рытхэу // Творчество народов Дальнего Севера. Магадан, 1958.
- Эвныто-пастух. Лит. обработка В. Дудинцева // Сияние Севера. М., 1978.