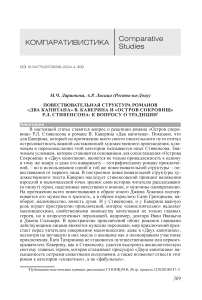Повествовательная структура романов "Два капитана" В. Каверина и "Остров сокровищ" РЛ. Стивенсона: к вопросу о традиции
Автор: Ларионова М.Ч., Лисица А.Р.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье ставится вопрос о рецепции романа «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона в романе В. Каверина «Два капитана». Показано, что для Каверина, который на протяжении всего своего писательского пути считал остросюжетность важной составляющей художественного произведения, ключевым в переосмыслении этой категории оказывается опыт Стивенсона. Значимым условием, которое становится основанием для сопоставления «Острова Сокровищ» и «Двух капитанов», является не только принадлежность к одному и тому же жанру и даже его инварианту - географическому роману приключений, - но и использование одной и той же повествовательной структуры - повествования от первого лица. В построении повествовательной структуры художественного текста Каверин наследует стивенсовский принцип наложения взрослой и мальчишеской точек зрения: свои истории читателю рассказывают (и пишут) герои, наделенные качествами и юноши, и мужчины одновременно. На протяжении всего повествования в образе юного Джима Хокинса подчеркивается его мужество и зрелость, а в образе взрослого Сани Григорьева, наоборот, мальчишество, юность души. И у Стивенсона, и у Каверина важную роль играет пространство приключений, которое «самостоятельно» наделяет мальчишескими, свойственными юношеству качествами не только главных героев, но и второстепенных персонажей, например, доктора Иван Иваныча и Джона Сильвера. В пространстве приключений обоих романов главными действующими лицами являются мужские персонажи, мир приключений предстает перед читателем совершенно мальчишеским: даже в «Двух капитанах», несмотря на звучащую в них мысль о женщине как о полноправном участнике приключения, Катя Татаринова не становится путешественником или первооткрывателем. Каверину, как и Стивенсону, удается выстроить аксиологическую систему главных героев, которая сглаживает присущую «Двум капитанам» насыщенность острыми сюжетными коллизиями, а также позволяет отнести этот роман к категории «сюжетных», а не «фабульных».
Стивенсон, каверин, «остров сокровищ», «два капитана», приключенческий роман, традиция, повествование от первого лица
Короткий адрес: https://sciup.org/149147198
IDR: 149147198 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-309
Текст научной статьи Повествовательная структура романов "Два капитана" В. Каверина и "Остров сокровищ" РЛ. Стивенсона: к вопросу о традиции
Среди авторов XX в., приучившего читателя постигать прозу по законам поэтического текста, В. Каверин оставался тем, кто ценил сюжет, считал, что это «единственный, проверенный столетиями механизм, с помощью которого можно вытащить прозу из “болота” орнаментализма» [Каверин 1983, 533]. В.Б. Шкловский отмечал, что этот автор, еще будучи частью «Серапионовых братьев», активно «работает сюжетом»: «Каверин – механик – сюжетный конструктор» [Шкловский 1990, 108]. В.И. Новиков сравнивал уже состоявшегося писателя с аккумулятором, «от которого всегда можно подзарядиться энергией литературного изобретательства» [Новиков 2002, 18].
В конце жизни В. Каверин размышлял над собственным местом в истории литературы и определял себя как ремесленника, проводя параллель со своим любимым писателем, чьи произведения в свое время тоже стали образцами приключенческой прозы: «Я средний писатель, настоящий средний писатель. Недаром мой любимец – Стивенсон» [Рубен 2015, 255].
Близкими Каверин и Стивенсон оказываются даже на книжной полке. В издании первой серии знаменитой «Библиотеки приключений» 1955–1957 гг. Стивенсон и Каверин – соседи: седьмым томом изданы «Остров сокровищ» и «Черная стрела», а восьмым – «Два капитана». Этих писателей сближает не только мастерство в построении сюжета, но и общий настрой произведений: Стивенсона принято называть неоромантиком, несмотря на то, что неоромантизм – «не столько конкретные стилистические модификации, сколько их общее свойство, “дух времени”» [Толмачев 2001, 640], в творчестве Каверина выделяют неоромантические образы и мотивы [Васильева 2011].
Имя Стивенсона не раз встретится читателям Каверина, особенно тем из них, кто интересуется его автобиографическими произведениями. В трилогии «Освещенные окна» писатель описал свою детскую увлеченность приключенческой литературой: здесь упоминаются и журнал «Вокруг света», и приложения к нему, и увлекательный сюжет, который сглаживает «фантастические по своей безграмотности переводы», а институт авторства в читательских глазах и вовсе обесценивает. Писатель признавался, что быть истинным читателем его «научил <…> Роберт Льюис Стивенсон, отстранив десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего не значившими именами» [Каверин 1983, 110].
У Стивенсона Каверин находил аккуратность и в то же время остроту сюжетных построений: «В романах Стивенсона я с нетерпением ждал плавных, как бы бесшумно подкрадывающихся неожиданностей – и не обманывался, потому что они встречались почти в любой главе» [Каверин 1983, 171]. Экспериментируя с литературной формой, добиваясь динамики сюжета, писатель не забывал о значимости ценностной ориентации персонажей. Он понимал, что выверенная аксиологическая система романа и его идейно-смысловое наполнение уравновешивает остросюжетность, и, по всей видимости, учился этому у Стивенсона:
Почему в неудержимом разбеге детского чтения меня остановил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора по отношению к тому, что происходит с его героями. Мне удало сь нащупать его нравственную позицию, раскрывающуюся медленно, шаг за шагом. За кулисами театра-книги я увидел автора, силу его власти, направление его ума, преследующего определенную цель [Каверин 1983, 110].
Несмотря на то, что исследователи «Двух капитанов» отмечают, что в романе использованы разные жанровые модели (например, роман воспитания, производственный роман, соцреалистический роман и т.д.), за этим каверинским текстом довольно прочно закрепилась репутация приключенческого: наверное, оттого, что «Два капитана» так легко встраиваются в контекст «канона» приключенческой литературы, освоенного с детства и юношества любым читателем. Этому роману присуща явная, намеренно сделанная заметной унас-ледованность традиционного художественного языка приключенческой про- зы: типы героев, мотивы, сюжетные схемы, образы времени и пространства, очевидно, тяготеют к классическим образцам приключенческих романов.
В их число, бесспорно, входит и «Остров сокровищ». В предисловии к роману Стивенсон размышлял об осмыслении предыдущего литературного опыта всяким писателем и отвечал на упреки о заимствованиях: «Да, несомненно, попугай принадлежал когда-то Робинзону Крузо. Да, скелет, несомненно, заимствован у По. <…> Частокол, как утверждают, взят из “Мичмана Риди”» [Стивенсон 1967, 10].
Есть ли что-то в «Двух капитанах», что «принадлежит» именно «Острову сокровищ»? Между этими романами можно найти сколько угодно сюжетных параллелей: например, совершенно внезапно и сами собой обнаруживаются таинственные письменные документы – письма капитана Татаринова и бумаги капитана Флинта, главные герои – Саня Григорьев и Джим Хокинс – нечаянно становятся свидетелями преступлений – убийства сторожа и заговора пиратов и т.д. Или история Сани Григорьева рифмуется в читательском воображении с историей Джима Хокинса только потому, что оба текста принадлежат к одной и той же жанровой традиции и подчиняются «памяти жанра»?
Из автобиографических произведений Каверина становится ясно, что он уделял большее внимание профессиональному, «писательскому» чтению, сравнивал его с искусством, с явлением резонанса, которое является неотъемлемой частью создания любого художественного текста: «Чтение для писателя есть умственное писание, в котором воображаемые вымарки и перестановки играют такую же важную роль, как в его собственной работе» [Каверин 1969, 168]. Учитывая этот факт и личный интерес Каверина к творчеству Стивенсона, рискнем предположить, что «Два капитана» и «Остров сокровищ» не только сближаются в рамках жанровой традиции, но и имеют общую повествовательную структуру.
Исследование и его результаты
Сходным в обоих случаях становится принцип построения романа, завязанного на добывании главными героями артефакта, который ценен в материальном и (или) нематериальном отношении, – сокровищ у Стивенсона и пропавшей экспедиции у Каверина. И «Остров сокровищ», и «Два капитана» (в своем приключенческом «обличье») представляют собой тот вариант географического романа приключений, который Н.Д. Тамарченко и Л.Е. Стрельцова назвали «Поиски клада или пропавшего человека». «Во всех произведениях, которые можно отнести к “географическому” роману приключений, предмет поисков и цели, к которым стремятся герои, всегда связаны с определенным местом», – отмечают исследователи [Тамарченко, Стрельцова 1995, 168].
Устойчивая связь между постигаемым пространством «чужого мира» (т.е. мира приключений), как его называют исследователи, и целью главного героя характерна и для романа Каверина. На первый взгляд, эти отношения кажутся очевидными – Саня Григорьев, Иван Татаринов и Север. Но ведь «Два капитана» – совсем не роман-путешествие. Саня Григорьев мотивирован не только индивидуальными желаниями, как герой приключенческой литературы; в его образе проявляется и эпическая составляющая, характерная для соцреалисти-ческих произведений: его заботит историческая память, государственная задача. Синтетическая природа главного героя заставляет время и пространство подстраиваться под нужды его становления. Например, Саня не находится в далеком и труднодоступном «чужом» мире на протяжении всего повествования, а когда попадает туда – осваивает его, делает «своим».
Джим Хокинс прибывает на Остров Сокровищ – и основная масса сюжетных коллизий сосредотачивается именно там, – а затем возвращается домой. Для Сани Григорьев же, наоборот, постоянно перемещается: между «чужим» и «своим» мирами для него не существует осязаемой границы. «Два капитана» охватывают широкую географию, которая не ограничивается только Москвой и Заполярьем, а сюжетные переломы не зависят от того, в каком пространстве существует ли герой, – у Каверина они в равной степени рассредоточены по всему романному полотну.
Источники препятствий традиционно находятся в самой прямой связи с тем, что считается «иным». Но Каверин не пускает главных антагонистов романа в «чужой» мир: ни Ромашка, ни Николай Антонович никогда не пересекают границу между «своим» миром и Севером. Да, вдруг выясняется, что Николай Татаринов – автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики, «почтенный ученый-полярник, пожертвовавший всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию “Св. Марии”, и посвятивший всю свою жизнь биографии великого человека» [Каверин 1981, 431], но на самом деле он этого пространства не достигает и уж тем более не осваивает.
Обратим внимание на то, как немного в этом романе эпизодов, напрямую связанных с северной темой. Однако в образе Сане Григорьева отчетливо проявляются черты типа героя-путешественника и первооткрывателя. В главе, описывающей знакомство главного героя с семейством Татариновых, Нина Капитоновна представляет Саню: «Он – путешественник» [Каверин 1981, 74]. Возникает впечатление, что это «представление» разыграно не только для ее внучки Кати Татариновой, но и для читателя. Метафора жизни как путешествия в целом оказывается широко представленной в романе. Например, тетя Даша всегда спрашивает Саню: «Ну как, Санечка, твое путешествие в жизни?» [Каверин 1981, 421].
Мы знаем, что капитан Григорьев постоянно перемещается: и по долгу профессии, и по «зову духа». Он принимает участие в испанской гражданской войне 1936–1939 г.; ищет Катю в Молотове, Ярославле, Новосибирске; они с Катей живут «в Крыму и на Дальнем Востоке», возит пушнину из Заполярья в Красноярск и т.д. При этом в «Двух капитанах» в центре внимания рассказчика и читателя находятся всего два масштабных путешествия: в Туркестан, куда Саня Григорьев и Петька Сковородников бегут еще мальчишками (а попадают в Москву), и на Север, когда Саня ставит перед собой цель найти пропавшую экспедицию капитана Татаринова.
Конечно, эти сюжетные линии только условно можно назвать путешествиями: мы знаем, что вместо приключений в Туркестане Саню ждет жизнь в Москве и учеба в школе-коммуне, а вместо целенаправленной экспедиции на Север – абсолютно случайные, сделанные в разное время и в разных уголках Арктики находки и открытия, связанные с пропавшей шхуной «Святая Мария». Однако именно эти сюжетные линии представлены в романе как канонические путешествия, описываемые в приключенческой литературе: читатель знакомится с деталями, приметами «чужого мира», есть устойчивая связь главного героя с пространством «чужого» мира, пребывание в нем порождает духовную трансформацию персонажа.
Но если подобные пересечения объяснимы законом, «памятью жанра» приключенческого романа, то явная связь между «Двумя капитанами» и
«Островом сокровищ» обнаруживается при анализе повествовательной структуры обоих текстов. Во-первых, оба романа оказываются рассказанными и написанными от первого лица. Оба героя-рассказчика дают нам понять, что они осознают свое авторское начало: об этом мы узнаем из выбивающихся из основного повествования пояснений, своего рода, авторских «ремарок». Например, в «Острове сокровищ»: «Если читатель помнит , в них говорилось следующее…» [Стивенсон 1967, 166] (курсив здесь и далее наш, если не указано особо – М.Л., А.Л. ). Или в «Двух капитанах»: «Пришлось бы написать еще одну книгу , чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова» [Каверин 1981, 594].
Стивенсовский роман начинается с того, что Джим Хокинс, от лица которого ведется повествование, объясняет своим читателям, что сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили его изложить все, что он знает об Острове Сокровищ. Этот первый абзац буквально выполняет функцию предисловия или обращения к читателям. Если принять это во внимание и мысленно поступить с этим первым абзацем так, как обычно читатель поступает с предисловием, то следующий абзац будет начинаться со слов «Я помню, словно это было вчера, как …» [Стивенсон 1967, 15]. Как и каверинский роман, повествование в котором тоже открывается словами «Помню…» [Каверин 1981, 7].
Повествование от первого лица позволяет не вдаваться в ненужные для приключений бытовые детали. Например, у Стивенсона: «Я не стану описывать подробности нашего путешествия» [Стивенсон 1967, 63]. У Каверина: «Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву» [Каверин 1981, 56], «Не стану рассказывать, как мы садились в Ванокане» [Каверин 1981, 298]. Читателю рассказано только то, что важно для развития сюжета: лишние подробности, касающиеся прагматической стороны жизни, вынесены куда-то за скобки, и у читателя не возникает желания вопрошать о них. В ход идет и прием смены повествователя: несколько глав за Джима Хокинса рассказывает доктор Ливси, а за Саню – Катя Татаринова.
Во-вторых, повествование в обоих романах представлено через соединение «взрослой» и «мальчишеской» точек зрения: рассказывающий и пищущий обладает качествами взрослого и мальчика, юноши одновременно. И этому Каверин «учится» тоже, по всей видимости, у Стивенсона. В «Острове Сокровищ», по мнению исследователей, происходит наложение этих точек зрения: «Наиболее примечательной чертой романа является его настойчивое стремление к преемственности и совместимости мальчишеского и взрослого опыта, о погружении взрослой точки зрения в точку зрения мальчика» (здесь и далее перевод этой статьи наш – М.Л., А.Л. ) [Ward 1974, 308].
Здесь важно вспомнить, как Стивенсон писал этот роман и какую роль в этом сыграл его пасынок Ллойд Осборн. Широко известно, что «Остров сокровищ» начался с карты, которую писатель создал, играя с Ллойдом, «в благородном соперничестве с ним, малюя картинки» [Стивенсон 1967, 9]. В письме другу, английскому поэту и критику Уильяму Хенли Стивенсон отмечал, что «книга вышла “исключительно благодаря Ллойду”» [Ward 1974, 306]. Кроме Ллойда Осборна в «испытании» «Острова сокровищ» чтением для публики принимал участие и отец писателя: «Я рассчитывал, что слушать будет один школьник; я обнаружил, что их два. Отец мой загорелся тотчас всею силой своей романтической, ребячливой и самобытной души» [Стивенсон 1967, 10–11].
Само приключенческое пространство – Север у Каверина и Остров Сокровищ у Стивенсона – в обоих романах требует проявления мальчишеских, юношеских качеств. Это накладывает определенный отпечаток на образы героев, попадающих в такое пространство. «Недурное место для мальчишки. Ты будешь купаться, ты будешь лазить на деревья, ты будешь охотиться за дикими козами. И сам, словно коза, будешь скакать по горам. Право, глядя на этот остров, я и сам становлюсь молодым и забываю про свою деревянную ногу», – рассуждает Джон Сильвер [Стивенсон 1967, 74].
Уже повзрослевший Саня, не видевший доктора несколько лет и первый раз оказавшись в Заполярье, отмечает изменения во внешности доктора Иван Иваныча: «Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках» [Каверин 1981, 249]. А вот портрет жены Иван Иваныча, Анны Степановны, внешний облик которой тоже свидетельствует о ее душевной «юности»: «У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам» [Каверин 1981, 250].
Поскольку основная часть действия в «Двух капитанах» сосредоточена на приключениях взрослого Сани Григорьева, его мальчишеская природа постоянно подчеркивается. Саня, конечно, рассказывает нам об этапах своего взросления – не будем забывать о синтезе жанров «Двух капитанов», где принято выделять в том числе и роман воспитания. На протяжении повествования читатель сталкивается со своеобразной рефлексией главного героя о прожитом и пережитом. Например, Саня много рассуждает о том, как и когда заканчивается юность, а в конце романа, оглядываясь назад, считает, что он больше «не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять па своем, – нет, зрелый, испытавший все человек» [Каверин 1981, 598]. Задумывая «Двух капитанов», Каверин ставил перед собой цель написать историю советского молодого человека: «Увидеть мир глазами юноши, потрясенного идеей справедливости, – эта задача представилась мне во всем ее значении. И я решил – впервые в жизни – писать роман от первого лица» [Каверин 1965, 239].
В том, что взрослому Сане по-прежнему близок мальчишеский дух, нас убеждают в основном собственные читательские наблюдения и характеристики, которые дают главному герою окружающие. «Знаешь, какая у него главная черта? Он всегда остается юношей, потому что у него пылкая душа, у которой есть свои идеалы», – отметит Кораблёв в разговоре о Сане [Каверин 1981, 362]. «Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь о стается мальчиком девятнадцати лет. Ч. такой и ты – тоже. Вообще многие летчики. Особенно те, которые любят перелетать океаны» – рассуждает Катя о «биологическом» и душевном возрасте человека [Каверин 1981, 430].
У Стивенсона, наоборот, подчеркивается зрелость, храбрость, деятельность Джима Хокинса, несмотря на его юный возраст. С самого начала повествования образ главного героя контрастирует с окружающими именно по признаку мужества. Например, в эпизоде сразу после смерти Билли Бонса, когда миссис Хокинс и Джим отправляются обратно в трактир за деньгами, спрятанными в сундуке пирата: «Я, конечно, заявил, что пойду с матерью, и, конечно, все заорали, что это безумие. Однако никто, даже из мужчин, не вызвался нас проводить» [Стивенсон 1967, 33]. Свое мужество Джим Хокинс постоянно доказывает и в путешествии, в окружении взрослых мужчин: «Мне по сердцу этот мальчишка. Я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас», – характеризует юнгу «Испаньолы» Джон Сильвер [Стивенсон 1967, 150].
О двух «больших путешествиях» Саня Григорьев рассказывает читателю в той же манере, что и Джим о своем путешествии на остров. Читатель знакомится с тем, что герои проводят много времени в мечтах и грезах о грядущих приключениях перед отправлением в путь. «Много часов провел я над картой и выучил ее наизусть. Сидя у огня в комнате домоправителя, я в мечтах своих вновь и вновь подплывал к острову то с севера, то с юга. Я исследовал каждый его вершок, тысячи раз взбирался на высокий холм, названный Подзорной Трубой, и любовался оттуда удивительным, постоянно меняющимся видом» [Стивенсон 1967, 48].
«Путешествие» Сани Григорьева и Петьки Сковородникова в Туркестан выходит у Каверина непосредственным, детским, напоминает читателю о чеховских гимназистах, мечтающих убежать в пампасы: «Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в белых цветах, а в тени, под цветами, ковры – синие, зеленые, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвем их сперва потихоньку, потом все смелее», – мечтает маленький Саня [Каверин 1981, 55]. Старшеклассник Саня, уже мечтающий о профессии полярного летчика, каждый день делает огромные выписки из полярных путешествий, вырезает из газет заметки о первых полетах на Север и вклеивает их в старую конторскую книгу: «Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом Пири. По всем маршрутам». [Каверин 1981, 125].
Мальчишеский мир находится в совершенной изоляции от всего, что касается девичьего, женского: из женских образов «Острова сокровищ» мы знаем честную мать Джима, поверхностно знакомы с где-то существующей чернокожей возлюбленной Джона Сильвера, благочестивой матерью Бена Ганна и какой-нибудь миссис Крогси, оставшейся держать сумку миссис Хокинс еще в четвертой главе романа.
Можно было бы долго рассуждать, почему роман оказывается лишенным женских образов, ведь нельзя сказать, что в приключенческой литературе в целом отсутствуют запоминающиеся героини. Но на этот вопрос существует простой ответ: Стивенсон намеренно не создавал персонажей-женщин, потому что писал книгу для определенной «целевой аудитории»: «Это будет книга для мальчишек; стало быть, не потребуется ни психологии, ни изощрений в стиле… Женщин не будет» [Стивенсон 1967, 9].
Что же у Каверина? Ведь «Два капитана» написаны в 1936–1944 гг. – время, когда летчицы и капитанши были героинями советских газет и журналов. «Одновременно с военной и физкультурной подготовкой женщинам предлагалось осваивать спектр профессий, которые раньше считались мужскими. В женских журналах конца 1920-х - середины 1930-х, в первую очередь, в “Работнице”, печатались фоторепортажи и рассказы от первого лица о железнодорожницах, летчицах, пожарницах, мотоциклистках, связистках, которым порой приходилось проявлять большую настойчивость, преодолевая скепсис и саботаж со стороны коллег-мужчин», – отмечает искусствовед Н.В. Плунгян [Плунгян 2023, 122–123].
Например, широко освещались истории Анны Щетининой, капитана дальнего плаванья, и Валентины Орликовой, капитана китобойного судна. В каверинском романе, несомненно, находятся свидетельства духа времени. Например, капитан Татаринов пишет брошюру «Женщина на корабле», в которой доказывает, что «“недопущение женщин к профессии моряка” приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля “женщину-механика, женщину-штурмана, женщину-капитана”», а Саня пересказывает содержание брошюры читателю [Каверин 1981, 237].
Сам Саня, отправляясь в путешествие в Туркестан, оставляет в Энске родную сестру Сашу и разделяет первый приключенческий опыт вместе с Петькой Сковородниковым. Надо полагать, что Катя Татаринова, «потрясенная тем, что, “сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Фердинанд Кортес отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу”» [Каверин 1981, 345], которая первой начинает мечтать о том, чтобы стать капитаном, – вполне себе полноправный участник приключений. У взрослой Кати еще больше шансов стать путешественником и первооткрывателем, она успешный геолог, вместе с Саней собирается арктическую экспедицию на «Пахтусове», которая в конечном счете отменяется стараниями Николая Антоновича. Вот как характеризует главный герой Катю после долгой разлуки, когда они вновь встречаются в Москве: «О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом, в мужских штанах и сапогах, с карабином через плечо, в широкополой шляпе. Геолог-разведчик! Капитан был бы доволен, увидев это фото» [Каверин 1981, 345].
Однако прямого участия в поисках шхуны «Святая Мария», Катя Татаринова никогда не принимает: и латунный багор в становище Ванокан, и то, что осталось от экспедиции капитана Татаринова, Саня находит самостоятельно, при чьей-то косвенной помощи. Иными словами, мысль о женщине как о полноправном участнике приключения / открытия получает в «Двух капитанах» идеологическое воплощение, но структурно наследует традиции приключенческого романа.
Выводы
Таким образом, романы «Остров Сокровищ» и «Два капитана» обладают схожей повествовательной структурой, организующим началом в которой становится точка зрения мальчика и взрослого. Один и тот же прием в организации повествования, прежде всего, оправдывает схожие интенции авторов исследуемых текстов. Можно по-разному отвечать на вопрос, о чем роман «Два капитана», продолжая череду версий, среди которых чаще всего звучат следующие: о возвращении исторической памяти, о справедливости, о верности и предательстве, о любви. Предложим еще одну: «Два капитана», где, на наш взгляд, в полной мере проявилась присущая писателю «наивность мальчишеская, с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам» [Шварц 1990, 509], – это роман о победе юношеского, необходимости сохранять в себе непосредственность, смелость, честность и открытость миру.
Список литературы Повествовательная структура романов "Два капитана" В. Каверина и "Остров сокровищ" РЛ. Стивенсона: к вопросу о традиции
- Васильева И.В. Феномен неоромантизма в художественной культуре России XX века: дисс... канд. культурологии: 24.00.01. Москва, 2011. 190 с.
- Каверин В.А. «Здравствуй, брат. Писать очень трудно.». М.: Советский писатель, 1965. 256 с.
- Каверин В.А. Собеседник. Заметки о чтении // Новый мир. 1969. № 1. С. 155-169.
- Каверин В.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1981. 638 с.
- Каверин В.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1983. 590 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. 1600 ст.
- Новиков В.И. Он выполнил свой план // «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». К 100-летию со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989) / сост. В. Д. Оскоцкий. М: «Academia», 2002. С. 13-18.
- Плунгян Н.В. Рождение советской женщины. М: Музей «Гараж», 2023. 228 с.
- Рубен Б.С. Времена и темы. Записки литератора. М.: Время, 2015. 256 с.
- Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. М.: Правда, 1967. 574 с.
- Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Путешествие в «чужую» страну. Литература путешествий и приключений. Учебное пособие по литературе для 5 кл. шк. гуманит. типа. М.: Аспект Пресс, 1995. 239 с.
- Шварц Е.Л. Живу беспокойно...: Из дневников. Л.: Советский писатель, 1990. 752 с.
- Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи - Воспоминания - Эссе (1914-1933). М.: Советский писатель, 1990. 544 с.
- Ward H.W. "The Pleasure of Your Heart": "Treasure Island" and the Appeal of Boys' Adventure Fiction // Studies in the Novel. 1974. № 3. Vol. 6. P. 304-317.