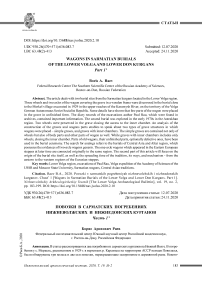Повозки в сарматских погребениях нижневолжских и нижнедонских курганов. Часть 1
Автор: Раев Борис Аронович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются два погребения из сарматских курганов на Нижней Волге. В погребении у с. Меркель, раскопанном в 1929 г. в верховьях р. Карамыш на территории АССР немцев Поволжья, были обнаружены три колеса и две оси повозки, перекрывающие захоронение в деревянной раме. Некоторые детали свидетельствуют о том, что части повозки были помещены в могилу в незавершенном виде. Важную информацию содержали дневниковые записи автора раскопок Пауля Рау, обнаруженные в архиве. Второе погребение исследовалось в начале 1970-х гг. в Астраханской области. Здесь в закладе подбойного захоронения сохранились два колеса. Анализ конструкции могильных ям и деталей повозок позволяет говорить о двух типах могильных сооружений, в которые помещались повозки, - простых ямах и ямах с подбоями. В первые иногда укладывали не только колеса, но и отдельные части кузова и иные части повозки. В погребениях подбойных для перекрытия устья подбоя использовали только колеса. Для погребальной церемонии применяли части старых повозок или их не доделанные до конца, может быть бракованные, части. Поиски аналогий заставляют обратиться к захоронениям Центральной Азии и Алтая, где есть свидетельства генезиса двуосных повозок. Одноосные повозки, появляющиеся в Восточноевропейских степях в более позднее время, связаны своим происхождением с этим же регионом. Происхождению, а также времени, путям и механизму распространения традиции из восточных в западные регионы степей Евразии будет посвящена вторая часть представленной здесь работы.
Нижнее поволжье, раскопки пауля рау, поволжская экспедиция иа ан ссср и мгу, повозки сарматского времени, центральноазиатские традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149132038
IDR: 149132038 | УДК: 930.26(470+571):636.083.7 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.2.10
Текст научной статьи Повозки в сарматских погребениях нижневолжских и нижнедонских курганов. Часть 1
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Раев Б. А., 2020. Повозки в сарматских погребениях нижневолжских и нижнедонских курганов. Часть 1 // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 2. С. 183–199. DOI: 10.15688/
Три года назад В.М. Клепиков опубликовал статью, посвященную использованию повозок и их частей в закладе могильных ям раннесарматских погребений в Нижнем Поволжье [Клепиков, 2017]. Целью моей работы является уточнение характеристики некоторых деталей повозок по архивным материалам, исправление неточностей, допущенных авторами некоторых публикаций, и сравнение нижневолжских повозок и повозок из сарматских курганов Нижнего Подонья. Отдельной темой во второй части работы будет связь повозок из курганов Юго-Восточной Европы с повозками пазырыкского времени и колесницами эпохи Хань.
Прежде всего, следует исправить несправедливость, допущенную по отношению к Паулю Рау – одному из самых грамотных и успешных археологов 20-х гг. XX в., тонкие и точные полевые наблюдения которого до настоящего времени не утратили своего источниковедческого значения. Именно им, а не Иваном Васильевичем Синицыным [ср.: Клепиков, 2017, с. 21] летом 1929 г. были исследованы несколько курганов у с. Меркель на территории Автономной Республики немцев Поволжья 2, в том числе курган G2, в третьем погребении которого были найдены части деревянной повозки: две разрубленные оси и три колеса со спицами. Через 18 лет подготовленный П. Рау отчет [Рау, 1929] в полном объеме со всеми беловыми чертежами и описаниями был перепечатан И.В. Синицыным [Синицын,
-
1947] . Поскольку провинциальная публикация 1947 г. стала раритетом, считаю важным опубликовать эту часть отчета Пауля Рау, тем более что она невелика по объему [Рау, 1929, c. 21–23] 3.
Могила 3-я, впускная.
Западная половина кургана. Северный конец траншеи D.
Удлиненная с закругленными углами могильная яма, врезанная в 21/22
материк до глинистой подпочвы. Длина 2,40, ширина в головах (южный конец) 1,04, в ногах – 0,85. Расположение по длине с С на Ю с уклонением к СВ–ЮЗ. Могильная яма уже отметилась в верхних слоях насыпи сырым и рыхлым составом заполнявшей ее почвы. Уже с поверхности попадались разрозненные березовые сучья, лежавшие ближе к горизонту сплошным слоем, будучи вдавлены в промежутки между колесами и осями, заслонявшими гроб. Осей было 4, а колес 3. Оси дубовые. Из дуба сделаны также спицы в колесах, ступицы же и ободы – из мягкой породы и плохой сохранности. От ободов сохранились лишь незначительные следы. Оси, повидимому, не были еще в употреблении, так как стержни их сохранились четырехгранными. Все 4 экземпляра до положения их в могилу были приведены в негодность: у каждой отрублен один из стержней. Располагались они в могиле следующим образом: одна прислонена к западной стенке могилы, уцелевшим стержнем вверх; две упирались поврежденным концом в дно у западной стенки, а в стержни их были вставлены колеса 4, заслонявшие таким образом гроб сверху; четвертая ось лежала горизонтально вдоль ямы, покоясь на колесах; третье колесо, наконец, лежало в северной половине могилы на крышке гроба. За неимением консервирующих средств взята лишь в обломках одна ось (фраза не вошла в текст статьи. – Б. Р.).
На дне ямы, ближе к восточной стенке, сохранились остатки деревянного гроба, в котором лежал скелет женщины в вытянутом положении на спине, головой к ЮВЮ ( опечатка исправлена в тексте статьи на «ЮЗ». Правильней ЮЮЗ – БР ). Между головным концом гроба и южной стенкой могилы стоял треснувший глиняный сосуд <шаровидной формы, высотой 27 см>. Рост костяка 1,53 <м>. Рядом с левым плечом, в гробу, 2 <два небольших> глиняных сосудика <с округлым дном, грубой ручной работы, без орнамента>. В юго-западном углу гроба, рядом с глиняным сосудиком, лежало в кучке: <круглое> алебастровое пряслице, осколок бронзового зеркала, четыре деревянных чурка (чурки) и кучка желтого порошкообразного вещества.
22/23
Между левой рукой и тазом – кусок мела и кусочек желтоватого вещества. Рядом с правым коленом – клинок железного ножа. У левого бедра 2-ая кучка желтого порошкообразного вещества. Гроб имел форму прямоугольного ящика.
Длина гроба 1,82 <м>, ширина в головах 0,60 <м>, ширина в ногах 0,50 <м>, высоту удалось установить до 0,18 <м>. Толщина боковых дощечек 0,8 см., порода – липа. Толщина крышки 0,5 см. Толщина концевой головной дощечки 1 см., порода – липа. Мест скреплений наблюсти (заметить) не удалось. От дна замечены (найдены) незначительные следы поперечных дощечек и на них остатки продольных, очень тонких.
В том же архивном деле сохранился полевой дневник Пауля Рау, заметки и зарисовки в котором не только дают дополнительную чрезвычайно ценную информацию, но и свидетельствуют о высоком уровне полевых исследований и скрупулезной фиксации ценной информации, которые были присущи автору дневника. Бóльшая часть дневниковых заметок к схематическим наброскам сделана на немецком языке и по каким-то причинам не вошла в текст отчета, хотя и содержит описание важных для понимания всей конструкции и обряда погребения деталей. Публикуемые страницы дневника сопровождаются прочитанными записями, которые для удобства пронумерованы и собраны в таблицу с параллельным переводом на русский язык 5.
В отличие от авторов публикаций, автора раскопок можно поправить, кажется, только в одной неверной интерпретации. Пауль Рау отмечает, что в погребении были найдены три колеса и четыре оси, у которых перед погребением были отрублены по одному стержню для насадки колеса (рис. 2, 1 ). На самом деле осей было всего две. Если попытаться соединить самую длинную ось 1 с самой короткой 4-й, мы получим ось А с длиной плеча около 1,8 м (рис. 2, 2А ). V-образный косой поруб в центральной части плеча мог образоваться при обычном в таком случае нанесении ударов топором с двух сторон. Ось Б, образованная соединением 2-й (с насаженным колесом) и 3-й (с реконструированным автором положением колеса), располагается симметрично оси А (рис. 2, 2Б ). Расстояние между колесами в этом случае составит около 1,9– 2,0 м, что соответствует расстоянию между колесами повозки из Пятого Пазырыкского кургана [Грязнов, 1955, с. 31] и колесниц Китая от эпохи бронзы [Wagner, 2004, S. 110, Abb. 3; S. 111, Abb. 4] до ханьских [Liu Yonghua, 2002, p. 8].
В оси А выдолблены пять сквозных прямоугольных отверстий, часть которых сделана под дроги, скрепляющие между собой оси повозки, в оси Б такое отверстие одно, оно точно соответствует отверстию на оси А, верхняя часть которого разрушена (рис. 2, 2 , левая часть плеча). Несмотря на то что на вторую и четвертую оси колеса были насажены, стержни осей, как отмечал Пауль Рау, сохранились четырехгранными, что свидетельствует о том, что они не были в употреблении [Рау, 1929, с. 22]. Недоструганные стержни, не выдолбленные под дроги отверстия, три колеса, вместо четырех, отсутствие в могиле частей кузова и дышла – все это говорит о том, что детали повозки были положены в могилу в процессе их изготовления.
Непонятно, почему в публикации В.М. Клепикова реконструировано расположение колес «на провалившемся перекрытии» [Клепиков, 2017, с. 21]. В последовательном описании заполнения Пауль Рау отмечает, что разрозненные сучья [перекрытия], встречавшиеся в верхней части заполнения ямы, лежали «ближе к горизонту сплошным слоем будучи вдавлены в промежутки между колесами и осями, заслонявшими гроб» [Рау, 1929, с. 22]. На поперечном сечении могильной ямы в дневнике, обозначенном «Разрез»6 (рис. 1а,13), и в отчете (рис. 3,3) отчетливо видно, что оси два и четыре, на стержни которых были надеты колеса, установлены наклонно – так, что их нижние концы легли на западную стенку рамы и сильно деформировали ее, а колеса только перекрывали раму с погребенной, но не лежали на ней. На раме горизонтально лежит только третье колесо, частично перекрывающее восточную стенку рамы в северной части, где стенка деформирована слабо (ср. сечение «гроба» на рис. 3,3).
В публикациях также искажена система крепления спиц в ступице. В машинописном тексте отчета Пауля Рау этот узел конструкции колеса не описан, но на рисунке в публикации И.В. Синицына появляется схема крепления спиц в ступице [Синицын, 1947, с. 76, рис. 49, справа внизу], которой нет на приложенных к отчету перебеленных на ватман рисунках (cр.: рис. 2,1, 3,1,3). Не исключено, что И.В. Синицын видел дневник Пауля Рау, но воспроизвел его зарисовку с существенным искажением. Описание вставленных в ступицу клиновидно зауженных концов спиц (всадов) на листе 107 архивного дела сопровождается карандашным наброском в правом нижнем углу, где хорошо видно, что тонкие концы спиц доходят до втулки, прорезая ступицу насквозь (рис. 1б,24). Аналогично устроено крепление спиц в сравнительно хорошо сохранившейся ступице колеса из погребения 3 кургана 3 у хутора Антонов в междуречье Волги и Дона (рис. 4,3) [Мамонтов, 1994, с. 24–25, рис. 5,3]. По описанию П.Д. Степанова, концы спиц были видны внутри ступицы колеса из Сусловского кургана 1 [Степанов, 1925, с. 77]. Такая конструкция технически не рациональна: сила трения ступицы об ось возрастает, а сама ступица делается более хрупкой. Она возможна в двух случаях: или в ступицу дополнительно вставлялась металлическая втулка, как это делалось на колесах китайских колесниц [Liu Yonghua, 2002, p. 17, fig. 3; Миняев, Сахаровская, 2007, с. 132, 135, рис. 4,3,4], или повозка изначально не предназначалась для езды и изготавливалась только для погребального церемониала. Мне неизвестны металлические втулки в сарматс- ких погребениях с деталями повозок, и я рискну предположить, что здесь речь может идти о втором варианте. Не исключено также, что в погребения укладывались отдельные детали старых повозок, чаще всего пара колес – с протертыми до спиц ступицами, как предположил П.Д. Степанов [Степанов, 1925, с. 77], или колеса, из которых изымали годные металлические детали, или, как в погре-бени у с. Меркель, не доделанные до конца части повозки.
В небольшой заметке о сарматских повозках П.М. Кожин подробно остановился на деталях повозки из с. Меркель, опубликованных И.В. Синицыным. Отметив примитивную и грубую форму осей, не соответствующую совершенной форме колес, он предположил, что колеса при вращении на четырехгранных осях создавали бы непрерывную резкую тряску экипажа [Кожин, 1969, с. 93–94]. Предположение тем более странное, что автор неоднократно ссылается на описание Пауля Рау в передаче И.В. Синицына, где отмечено, что стержни осей не были доделаны. А в следующем абзаце прямо указывает на то, что повозки могли быть изготовлены специально для погребального ритуала [Кожин, 1969, с. 94]. Там же опровергаемое дневниковой зарисовкой и комментарием (рис. 1а, 17 ) утверждение П.М. Кожина о том, что на стержнях осей нет отверстий для чеки.
По дневниковой зарисовке Пауля Рау, при соблюдении общих принципов конструкции ступицы колес имели необычную форму. Дневникового описания ступиц нет, сохранился только их схематичный поперечный разрез. Утолщенная часть ступицы, в которую вставлялись спицы (они обозначены на схеме четырьмя штрихами, рис. 1б,15), к внешнему концу сужается, образуя длинную втулку. На внешнем конце ступицы в противовес массивной центральной части с утолщением к центру оси обычно делалось утолщение, которое вместе с длинной втулкой обеспечивало устойчивость колеса и уменьшало амплитуду его колебания в вертикальной плоскости при движении (рис. 4,2,4). К сожалению, внешний конец ступиц повозки из погребения у с. Меркель не сохранился, судить о его форме мы не можем. Необычной у них была форма центральной части ступицы – сторона, обращен- ная к центру оси, была не плоской, а полукруглой, хотя у сохранившихся ступиц она плоская (рис. 4,2,3) или слабовыпуклая (рис. 4,5). Вероятно, эта часть детали также не была окончательно обработана. У всех осей угол перехода плеча в стержень скруглен, что минимизировало вероятность поломки оси в этой точке (рис. 2,1). На схеме колесо плотно насажено на стержень – так, что ступицы примыкают к широкой части плеча, при этом вращаться на стержне оси, который к плечу становится прямоугольным в сечении, колесо просто не могло. Как решалась эта проблема – видно на ступицах колес повозки из Пятого Пазырыкского кургана. Обращенная к центру оси часть втулки воронковидно расширяется, что позволяет ступице, сохраняя круговое движение вокруг оси, вращаться этой частью вокруг прямоугольной детали (рис. 4,5). Необходимостью такого воронковидного расширения продиктован большой диаметр этой части ступицы.
Заклад могилы, но совершенно другого вида был исследован Поволжской археологической экспедицией в 1974 г. в кургане 5 могильника Кривая Лука VIII в Астраханской области, где колеса закрывали вход в подбой. Обе публикации этого комплекса фрагментарны и не верны в деталях, поэтому я счел возможным привести здесь его описание и план (рис. 5) по отчету 7 [Федоров-Давыдов и др., 1975, с. 70–73, рис. 67–69].
Погребение 15 (впускное)
Яма погребения размерами 2,2 х 2,3 м выявлена на глубине 378 от ЦК, к востоку от погребения 13. Западный борт ямы на глубине -422 от ЦК имел ступеньку шириной 30 см, вырытую в материковом песке. На ступеньке найдены бронзовый втульчатый трехгранный наконечник стрелы и сильно окислившийся железный наконечник. Ступенька спускается до глубины -452 от ЦК. На этой глубине яма имеет размеры 2,25 х 1,3 м. Яма ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. В центре ямы в деревянном гробу совершено погребение. На глубине -424–442 от ЦК, в юго-западном углу ямы и вдоль ступеньки расчищены отпечатки ступиц четырех колес, положенных, очевидно, на край ступеньки и частично перекрывавших западную стенку гроба. В гробу из деревянных плах шириной 4–5 см совершено парное захоронение женщины и подростка. Длина гроба 1,90 м, ширина 0,60–0,75 м. В центре гроба лежал костяк женщины, обернутый в бересту. Костяк хорошей сохранности. Все кости скелета сохранились in situ и фиксировали вытянутое на спине положение погребенной, ориентированной головой на юго-восток. Череп лежал на затылочной кости со склонением к правому плечевому суставу. Правая рука погребенной вытянута вдоль корпуса, плотно прижата к нему. Кисть правой руки находилась в области правого тазобедренного сустава. Левая рука была слегка отодвинута от корпуса, согнута в локте. Кисть левой руки лежала на левом тазобедренном суставе. Ноги погребенной вытянуты, параллельны. Стопы вытянуты и направлены в разные стороны. Береста, в которую была обернута погребенная, лучше всего сохранилась на стопах.
На костях грудной клетки, острием к левому плечу, лежал костяной кочедык с отверстием в утолщенной части. На правом крыле таза найдена литая бронзовая круглая пряжка с язычком. У левого плечевого сустава обнаружен пучок железных черешковых трехгранных стрел. Стрелы очень плохой сохранности. Взять их не удалось. Правая кисть погребенной покоилась на рукояти короткого железного меча с прямым перекрестием и серповидным (?) навершием. Под лучевыми костями обеих рук находились истлевшие железные предметы крестовидной формы.
В северо-восточном углу гроба, вдоль правого бедра погребенной, лежал костяк подростка. Костяк сильно сжат, буквально втиснут в гробови-ну. Сохранность костяка удовлетворительная; все кости скелета находились in situ и фиксировали вытянутое на спине положение погребенного, ориентированного головой на юго-восток. Череп лежал на затылочной кости. Руки были плотно прижаты к корпусу и слегка согнуты в локтях. Кисти рук находились на тазовых костях. Ноги вытянуты, соединены в коленях и пяточных костях. Стопы вытянуты. У правой голени погребенного лежали железные черешковые трехгранные наконечники стрел. Между бедренными костями обнаружена железная массивная пряжка. На запястьях были найдены браслеты из мелких пастовых бусинок. Под черепом, в области шеи обнаружено ожерелье из пастовых и гешировых бусин. Удалось проследить порядок бусин: 5–6 гешировых – пастовая – 5–6 гишеровых...
В изголовье гроба, у южной стенки подбоя, лежали кости ног и лопатка барана, а в юго-западном углу, на глубине -435 от ЦК (очевидно, на подсыпке) стоял лепной орнаментированный сосуд с узким горлом, слегка отогнутым венчиком и ручкой. Тулово сосуда раздутое, сужающееся ко дну.
При расчистке женского костяка, на 20 см выше него, в области грудной клетки найдены фрагменты железной, сильно окислившейся пряжки.
Это парное захоронение относится к сарматскому периоду и датируется III–II вв. до н.э. Парное захоронение сарматского периода (костяки 1 и 2) нарушило, очевидно, более раннее подбойное захоронение, ориентированное по линии запад – восток.
Остановлюсь на нескольких важных деталях захоронения, которые требуют безусловной корректировки, и прежде всего – на форме могильной ямы. В тексте отчета она описана как «яма». В.М. Клепиков определяет ее как «прямоугольную яму» [Клепиков, 2017, с. 21]. В статье Ф.Р. Балонова форма ямы не названа, но в таблице она отмечена как яма с подбоем [Балонов, 1980, с. 81, табл. 2] 8. Информация об устройстве ямы была получена Ф.Р. Балоновым от руководителя экспедиции, имевшего основания для реконструкции, и он описывает ее как катакомбную, или яму с подбоем [Балонов, 1980, 83–84, примеч. 7 и 43]. Сооружение могильной ямы погребения 15 в мешаном заполнении сложной связки из шести ям не позволяло проследить конструкцию подбоя, но некоторые детали говорят именно о такой ее форме. Во-первых, ступенька в яме фиксировалась вдоль одной из длинных сторон – юго-западной. Считать частью второй ступеньки поверхность перемычки между погребениями 15 и 16 не позволяет то обстоятельство, что рама и погребенный сдвинуты к северо-восточной, задней стенке, что обычно для подбоев. Глубина дна ямы от уровня ступеньки составляет 0,3 м, что необычно мало для ямы с заплечиками. Ни на «заплечиках», ни в заполнении не были обнаружены какие-либо следы перекрытия, что странно для неограбленной могилы. Наконец, расположение колес на ступеньке вдоль длинной стенки ямы обычно для заклада подбоя.
Из необычных деталей отмечу устройство рамы не на дне ямы, а в специально подготовленном углублении (рис. 5, 1 , разрез А–А), стенки которого обложены деревянными плахами шириной 4–5 см, составляющими раму [Федоров-Давыдов и др., 1975, рис. 290–293].
В.М. Клепиков, основываясь на тексте отчета, где упомянуты ступицы четырех колес, категорически не согласен с Ф.Р. Балоновым, упоминающим в начале описания три колеса (с вопросом), а потом, после сопостав- ления параметров сохранившихся отпечатков, предположившим, что колес, возможно, было не три, а два [Балонов, 1980, с. 77]. Ни чертеж погребения (рис. 5,1), ни полевые фотографии [Федоров-Давыдов и др., 1975, рис. 287–289] не позволяют говорить о четырех ступицах. Я попытался вновь осуществить реконструкцию колес, использовав возможности компьютерной графики. Результаты ее (рис. 5,2) заставляют присоединиться к предположению Ф.Р. Балонова о двух колесах разного диаметра. При том что отпечатки колес можно было фиксировать с изрядной долей условности, реконструированные размеры колес очень близки: у Ф.Р. Балонова 0,92–1,04 до 1,30 м [Балонов, 1980, с. 77] или 100 (130) <см> [Балонов, 1996, табл. 2, 12], и 0,9 м (меньшее) и 1,15 м (большее) колеса по реконструкции автора. Из-за сильной деформации и сохранности колес в виде тонкой прослойки тлена нельзя, впрочем, исключить ошибки в расчетах. Колеса в Кривой Луке, как в большинстве захоронений, когда их размер восстанавливается точно, могли быть одного диаметра.
Подбой, как отмечалось выше, был сооружен в заполнении ранних погребений, его обрушение произошло, вероятно, вскоре после захоронения, из-за чего установленные под углом колеса разломались, легли горизонтально, а отдельные их части переместились, судя по плану, в южном направлении
Для заклада подбоя использовали обычно два колеса, которые при большом диаметре перекрывали его на всю длину. Заклад подбоя тремя колесами известен один – погребение 13 кургана 4 у с. Политотдельское [Клепиков, 2017, с. 22, 27, рис. 5]. Три колеса из погребения у с. Меркель (рис. 3, 1 ) или четыре колеса из погребения 12 в кургане 17 у с. Быково [Смирнов, 1960, с. 220, рис. 19, 2а , б ) найдены не в подбойных, а в прямоугольных ямах. И только в прямоугольных ямах вместе с колесами, даже если колесо было одно [Смирнов, 1959, с. 268–270, рис. 24, 1 ], всегда находили детали осей или кузовов повозок, которых нет в закладах подбоев.
Анализ конструкции могильных ям и деталей повозок, найденных в двух описанных погребениях, позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, можно говорить о существовании в раннесарматское время на тер- ритории Нижнего Поволжья двух типов могильных сооружений, в которые помещались повозки, – простых ям и ям с подбоями.
В первые, помимо колес (от одного до трех), иногда укладывали отдельные части кузова и иные части повозки. В погребениях подбойных для перекрытия устья подбоя использовали только колеса. За исключением одного случая, колес было два, и за счет большого диаметра они закрывали устье по всей длине.
Особенности обработки отдельных узлов и деталей повозок, помещавшихся в погребения, дают возможность предполагать, что для погребальной церемонии использовали части старых повозок или их не доделанные до конца, может быть бракованные на стадии изготовления, части.
Поиски аналогий самой идее помещения повозки в могилу или замещения ее отдельными частями, среди которых обязательны колеса как самый зримый символ повозки, заставляют обратиться к захоронениям Центральной Азии и Алтая, где есть свидетельства генезиса двуосных повозок [Гук, Николаев, 2012, с. 454]. Одноосные повозки, появляющиеся в Восточноевропейских степях в более позднее время, связаны своим происхождением с этим же регионом. Их сходство с повозками из раннесарматских курганов, как и отличия от транспортных средств предшествующего времени, заслуживают специального исследования. Этому, а также времени, путям и механизму распространения традиции из восточных в западные степи Евразии будет посвящена вторая часть представленной здесь работы.
Продолжение следует...
Список литературы Повозки в сарматских погребениях нижневолжских и нижнедонских курганов. Часть 1
- Балонов Ф. Р., 1980. Колесный транспорт сарматской эпохи // Археология Южной Сибири. Кемерово : Кемеров. гос. ун-т. С. 69–87.
- Балонов Ф. Р., 1996. Культ коня и колесницы в скифо-сарматскую эпоху у народов евразийских степей и предгорий : дис. ... канд. ист. наук в форме доклада. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т. 29 с.
- Грязнов М. П., 1955. Колесница ранних кочевников Алтая // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. VII. С. 30–32.
- Гук Д. Ю., Николаев Н. Н., 2012. Повозка из Пятого Пазырыкского кургана // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2. СПб. : ИИМК РАН, Периферия. С. 454–457.
- Детлова Е. В., Кузьминых С. В., Малов Н. М., 2019. П.С. Рыков и П.Д. Рау в зеркале переписки с учеными Западной Европы (А.М. Тальгрен, Г. Мергарт, Э.Х. Миннз, Т. Арне) // Археология Восточно-Европейской степи. Вып. 15. Саратов : Изд-во СГУ. С. 224–298.
- Клепиков В. М., 2017. Погребения раннесарматской культуры Нижнего Поволжья с деталями повозки в закладе могильной камеры // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История, Регионоведение. Международные отношения. Т. 22, № 3. С. 20–35. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2017.3.2
- Кожин П. М., 1969. О сарматских повозках // Древности Восточной Европы. К семидесятилетию Алексея Петровича Смирнова. МИА. № 169. М. : Наука. С. 92–95.
- Комаров А. М., Кузьмина О. В., Иванов А. Ю. 1990. Отчет о раскопках курганных могильников у с. Политотдельское (Николаевский район), Хохлачевский (Среднеахтубинский район), у хутора Молокановский (Октябрьский район), Казачий (Котельниковский район) и одиночного кургана у с. Песковатка (Калачевский район) в зонах строительства оросительных систем в Волгоградской области в 1989 г. Волгоград, 1990 // Архив ВОКМ. № 102.
- Мамонтов В. И., 1994. Курганный могильник Антонов I // Древности Волго-Донских степей. Вып. 4. Волгоград : Перемена. С. 15–46.
- Миняев С. С., Сахаровская Л. М., 2007. Ханьская колесница из могильника Царам // Археологические вести. Вып. 14. С. 130–140.
- Рау П. Д., 1929. Отчеты о раскопках 1928 и 1929 гг. с дневником, чертежами, рисунками и фотографиями // Архив ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. № 149.
- Синицын И. В., 1947. Археологические раскопки на территории Нижнего Поволжья. Саратов : Изд-во СГУ. 134 с.
- Смирнов К. Ф., 1959. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья. МИА. № 60. М. : Изд-во Акад. наук СССР. С. 206–322.
- Смирнов К. Ф., 1960. Быковские курганы // Памятники Нижнего Поволжья. МИА. № 78. М. : Изд-во Акад. Наук СССР. С. 169–268.
- Степанов П. Д., 1925. Изделия из дерева в курганах Сусловского могильника. В: Рыков П.С. Сусловский курганный могильник // УЗСаратГУ. Т. IV. Вып. 3. С. 76–81
- Федоров-Давыдов Г. А., Дворниченко В. В., Малиновская Н. В., 1975. Отчет о раскопках курганов в урочище «Кривая Лука» в Черноярском районе Астраханской области в 1974 г. Москва, 1975. Т. 1–3 // Архив Астраханского музея-заповедника.
- Liu Yonghua, 2002. Zhongguo Gu Dai Che Yu Ma Ju. Shanghai Shi : Shanghai ci shu chu ban she. 200 p.
- Wagner M., 2004. Wagenbestattungen im bronzezeitlichen China. In: Fansa M., (Hrsg.) Rad und Wagen: Der Ursprung einer Innovation; Wagen im Vorderen Orient und Europa. Oldenburg-Mainz-Isensee : P. von Zabern. S. 107–122.