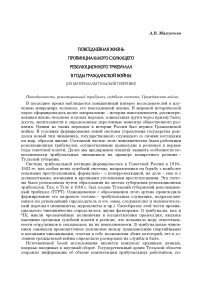Повседневная жизнь провинциального служащего революционного трибунала в годы Гражданской войны (по материалам Тульской губернии)
Автор: Макутчев Александр Валерьевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (14), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению составляющих элементов повседневности работников чрезвычайных судов Советской России - революционных трибуналов. В центре внимания - аспекты службы и быта, особенности мировоззрения этой специфической категории советского чиновничества в условиях гражданской войны.
Повседневность, революционный трибунал, судебная система, гражданская война
Короткий адрес: https://sciup.org/144153103
IDR: 144153103
Текст научной статьи Повседневная жизнь провинциального служащего революционного трибунала в годы Гражданской войны (по материалам Тульской губернии)
В последнее время наблюдается повышенный интерес исследователей к изучению микромира человека, его повседневной жизни. В мировой исторической науке сформировалось целое направление – история повседневности, рассматривающая жизнь человека и целых народов, социальных групп через призму быта, досуга, ментальности в определенные переломные моменты общественного развития. Одним из таких периодов в истории России был период Гражданской войны. В условиях формирования новой системы управления государства рождался новый тип чиновника, государственного служащего со своими взглядами на мир, образом жизни. Составной частью этого чиновничества были работники революционных трибуналов, осуществлявшие правосудие в регионах в первые годы советской власти. Далее мы предпримем попытку выявить особенности повседневности трибунальных чиновников на примере конкретного региона – Тульской губернии.
Система трибунальной юстиции формировалась в Советской России в 1918– 1923 гг. как особая ветвь судебной системы, направленная на борьбу с наиболее опасными преступлениями, формально – с контрреволюцией, на деле – еще и с должностными, военными и крупными уголовными преступлениями. Эта система была реализована путем образования на местах губернских революционных трибуналов. Так, в Туле в 1918 г. был создан Тульский губернский революционный трибунал (ТГРТ). Одновременно с образованием этого органа происходило формирование его кадрового состава – трибунальных служащих, подразделявшихся на руководящий (председатель и его замы, следователи) и вспомогательный персонал (машинисты, журналисты и пр.). Своеобразие этой части провинциального чиновничества определялось двумя факторами: 1) трибуналы, как и ЧК, имели чрезвычайные полномочия в осуществлении правосудия, являясь высшими органами судебной власти в регионе, что повышало меру ответственности сотрудников и сказывалось на их повседневности; 2) трибунальные чиновники занимали промежуточное положение между гражданскими (партийными) и военными чиновниками, сочетая в себе полномочия обеих категорий, что в условиях гражданской войны определяло распорядок их службы и быта.
Источниковой базой исследования является комплекс архивных данных, впервые вводимых в научный оборот. Государственный архив Тульской области сохранил информацию об объеме компетенции трибунальных работников, по- рядке службы, анкетные данные о личном составе, с помощью которых возможно достичь цели исследования.
Повседневную жизнь трибунального чиновника можно условно разделить на повседневность служебную и бытовую [Черемисина 2008, с. 18]. Под бытовой повседневностью мы понимаем часть жизни служащих, связанную с семьей, домом, хозяйством, досугом. Работу в трибунале, исполнение должностных обязанностей чиновниками мы относим к повседневности служебной.
В числе факторов, обусловливавших повседневность трибунального чиновника, следует указать: законодательство и должностные инструкции, регулировавшие порядок прохождения службы; условия гражданской войны; имущественное, социальное и семейное положение служащих.
Центральное законодательство нечетко регулировало деятельность трибу-нальных работников, многие вопросы оставлялись на усмотрение региональных органов власти. Наркомюст в 1918 г. отправил на места несколько циркуляров об общих требованиях к структуре трибуналов, при этом установление критериев найма работников, штатного расписания передал в ведение отделов юстиции [Перцев, 2008, с. 23].
ТГРТ на момент его образования в 1918 г. состоял из 8 человек и включал должности председателя, его заместителей и работников трех структурных подразделений — Следственной комиссии, проводившей следствие, Коллегии обвинителей с функцией защиты и обвинения и канцелярии (секретарь, делопроизводители и журналисты, занимавшиеся оформлением документации) (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2134. Л. 18—20, 22—24). К лету 1919 г. в связи с интенсивностью работы штат расширился до 36 человек.
Порядок поступления на службу в трибунал был продиктован ситуацией «кадрового голода» — ввиду недостатка работников органы власти не предъявляли серьезных требований к квалификации сотрудников. Председатель ТГРТ был обязан принимать на работу тех, кого направляла Биржа труда, а она, в свою очередь, направляла первых в очереди, без учета квалификации (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2122. Л. 121-127).
Большинство сотрудников приходило в трибунал в возрасте 26–30 лет, не имея достаточного опыта трудовой деятельности, многие имели гражданские профессии булочников, столяров и т. д. При этом руководящий состав был старше вспомогательного персонала в среднем всего на 5-7 лет. 75 % трибунальцев имели среднее и начальное образование. Высшее образование встречалось только среди следователей, видимо, сказывалась близость Тулы к столичным университетам (ГАТО. Ф. 717. Оп. 1. Д. 230. Л. 11-22).
Вступительных испытаний и испытательного срока не предусматривалось. Каждый трибунальный сотрудник при поступлении давал в присутствии всех сотрудников письменное обязательство хранить в тайне содержание его деятельности. Далее его знакомили с рабочим местом, обязанностями и «деловым обращением» (этикетом), определявшим характер общения между сотрудниками и учреждениями. Промежуточные аттестации в трибуналах предусмотрены не были, повышение квалификации было возможно только путем командирования руководства трибунала в Москву.
Вторым фактором, определявшим повседневность трибунального чиновника, была обстановка военных действий. Все сотрудники мужского пола являлись военнообязанными и могли быть призваны на фронт. Руководство трибуналов, указывая на образующуюся текучку кадров, пыталось препятствовать этому, но безуспешно. Тем не менее определенные льготы на фронте у трибунальцев были: они прикреплялись к штабам в качестве делопроизводителей, писарей и не зачислялись в строевые части [Федоренко, 2006, с. 22—23].
Рабочий день трибунального чиновника начинался в 9.00. Рабочая неделя была шестидневной, обычно по вторникам, четвергам и субботам с 10.00 открывались судебные заседания. В оставшиеся три дня следователи осуществляли следствие и готовили материалы, работники канцелярии оформляли служебную переписку, вели журналы заседаний и реестры дел. Официально рабочий день трибу-нальца заканчивался в 17.00, однако ввиду загруженности трибунала в условиях войны он зачастую был ненормированным. Председатель и следователи работали без ограничения рабочего времени, остальные часто работали на дому, в среднем по 4—8 часов. Если следовать этим данным, трибунальный чиновник работал дома до полуночи и позже, для чего ему выдавали керосин (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2122. Л. 3–27). К тому же присутствие работника на рабочем месте не означало эффективности его работы. Как указывал заведующий Отделом юстиции в ноябре 1918 г., «при обходе подотделов снова замечено: служащие на занятия являются несвоевременно, некоторые с большим опозданием, служащие во время занятий прогуливаются по коридорам и ведут частные беседы, отношение к службе несерьезное, день проходит в смехах и разговорах» (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2130. Л. 3435). Подобную недисциплинированность можно объяснить: 1) неясностью полномочий каждого сотрудника (так, обязанности журналиста и машиниста во многом совпадали, отсюда «хождение без дела»); 2) возрастом и семейным положением сотрудников (65 % всех мужчин, работавших в трибуналах губернии, были в возрасте 23—33 лет, половина из них были не женаты. В свою очередь, женщины составляли 30 % всех сотрудников, большинство из них были не замужем. Отсюда посторонние разговоры и легкомысленность).
Картину служебной повседневности трибунальных чиновников дополняет описание условий их работы. ТГРТ размещался в двухэтажном здании бывшего окружного суда на улице Коммунаров (ныне — проспект Ленина). По донесениям председателя трибунала, здание не подходило для почти круглосуточной деятельности: «ввиду плохого действия электричества в помещении и самого хаотического его состояния, трибуналу приходится погружаться в темноту во время прений и объявления приговора» (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2122. Л. 45—58). С учетом этой ситуации все комнаты трибунала приходилось освещать керосиновыми лампами.
Обстановка в рабочих кабинетах нам известна благодаря периодически составлявшимся описям имущества. В реалиях гражданской войны интерьер помещений составлялся из конфискованных предметов мебели богатых домов и царских учреждений. Так, в обстановке рабочих помещений ТГРТ в марте 1919 г. присутствовало 30 венских стульев из здания Городской думы, с ними соседствовали табуретки и скамейки, перенесенные из пожарной части. Интерьер каждого помещения предусматривал 3–4 шкафа для дел, 10–12 стульев, 2–3 кресла и мягкий диван, по одному столу на каждого сотрудника, пишущую машинку, часы и шторы. В кабинете председателя также имелись телефон, зеркало, трюмо (разбитое) и портрет В.И. Ленина (ГАТО. Ф. 717. Оп. 1. Д. 290. Л. 43-44, 47-55об.).
Каждому сотруднику выдавались канцелярские принадлежности: чернильные приборы (из здания Дворянского собрания, на мраморных подставках), белая бу- мага, картон, перья и химические карандаши. Канцелярские принадлежности ввиду обилия бумажной работы расходовались быстро, пишущие машинки часто ломались. Работникам приходилось вести служебную переписку на оборотных сторонах использованных бланков и даже лицевых сторонах чайных этикеток.
Сведения о форме одежды трибунальных служащих предоставляют списки инвентаризации, которые показывают особенности их статуса. Особой формы они не имели, но комплектовались по военному образцу: летней формой одежды были летнее пальто, фуражка с околышем, сапоги. Зимняя форма одежды была больше похожа на гражданскую: пальто, шапка или папаха, валенки с галошами (ГАТО. Ф. 717. Оп. 1. Д. 565. Л. 25–26, 30).
Библиотеку трибунала составляла официальная и агитационная литература. Нормативной литературы, т. е. правовых актов, инструкций и декретов, было значительно меньше. Так, в марте 1919 г. в библиотеке ТГРТ числились: 77 номеров Собрания узаконений, 7 номеров журнала «Пролетарская революция», 5 декретов. Читали эту литературу сотрудники мало и неохотно, иногда даже писали на вырванных страницах.
Реалии служебной и бытовой повседневности трибунальных работников во многом определялись их имущественным положением. Средняя заработная плата трибунальца в декабре 1918 г. составляла 400 руб. Основными расходными статьями были покупка провизии, одежды и обуви, оплата жилья, партийные взносы. Килограмм картофеля в декабре 1918 г. стоил 2,5 рубля, десяток яиц – 37,5, при этом установленная Всероссийским профессиональным союзом служащих и рабочих в 1918 г. «потребительская корзина» предполагала на одного человека 0,6 кг мяса, 14,4 кг картофеля, 12 штук яиц [Панов, 2008]. Исходя из этого, только на закупку указанного «минимума» картофеля чиновник должен был потратить 360 руб. своего оклада. Где брать деньги на покрытие других расходных статей? Дело в том, что трибунальцы находились на государственном обеспечении, и многие статьи расходов компенсировались казенным имуществом и денежными дотациями. Так, осенью 1918 г. каждый сотрудник трибуналов в губернии получал по 60 рублей ежемесячно на приобретение продуктов, а также варенье, сахар, керосин (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2134. Л. 32–35; Д. 1826. Л. 63–64).
Проблема одежды и обуви также решалась государством. По ценам 1918 г. зимнее пальто стоило 750 руб., ботинки – 200, трибунальцу же они полагались бесплатно. Характерно, что обувью и верхней одеждой обеспечивались и члены семей трибунальцев.
Значительной статьей расходов была оплата жилья, однако в этом случае дотации предусмотрены не были. 55 % всех служащих ТГРТ имели собственное жилье, у них оплата жилья отнимала 30–50 % оклада, поэтому долги за жилье были частым явлением. Так, к маю 1919 г. председатель Следственной комиссии ТГРТ, второй по должности человек в трибунале М.М. Майоров задолжал за комнату 4070 руб (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 849. Л. 23–40). 45 % трибунальцев происходили не из Тулы и получали служебное жилье за вдвое меньшую плату. Общежитием для трибунальцев был Дом Советов – двухэтажное здание в непосредственной близости от здания ТГРТ.
С одной стороны, государственное обеспечение трибунальных чиновников делало в условиях гражданской войны и голода эту работу привлекательной, с другой – низкие оклады и отсутствие механизма контроля над кадрами откры- вали просторы для взяточничества и казнокрадства. По сравнению с продовольственными и военными структурами губернии злоупотребления в трибуналах были нечастыми, тем не менее за 5 лет работы трибуналов к суду было привлечено 25 сотрудников из 188 (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2130. Л. 45–58).
Служба во многом определяла быт чиновника. На досуг влияли загруженность работой, война, социальное происхождение, уровень оклада. Учитывая распорядок дня, работу на дому и фактическое отсутствие отпусков, времени на досуг оставалось мало. Военное положение, введенное в городе осенью 1918 г., и размах уличной преступности также не способствовали развлечениям, а размер оклада позволял тратиться только на необходимое. Сказывался и провинциальный статус Тулы: вариантов для проведения досуга было немного. Для прогулок предназначались городской парк с беговым кругом и набережная Упы. В городе в двух кварталах от ТГРТ находился единственный кинотеатр «XX век», недалеко – Дом музыки, здание пролеткульта. Однако сведений о фактах регулярного посещения их трибунальцами в фондах ТГРТ не сохранилось, что можно связать с социальным происхождением чиновников. Большинство трибунальцев происходили из крестьян и рабочих, имели начальное образование, поэтому их вкусы были далеки от театра и музыки. Частью досуга становились азартные игры, на что указывали ревизоры Губисполкома (ГАТО. Ф. 1963. Оп. 1. Д. 2122. Л. 17–20, 23–26).
Праздничная культура в условиях гражданской войны и с учетом чрезвычайного статуса трибунального чиновника была регламентирована государством и представляла собой один из видов служебной деятельности. После запрета религиозных обрядов разделение на общественные и семейные праздники исчезло. В архиве сохранились данные об участии трибунальцев в обязательных общественных торжествах – шествиях и митингах. Делегирование сотрудников происходило путем «разнарядки» из Тульского совета. Обычными местами проведения митингов и демонстраций были Пушкинский и Гоголевский сады напротив здания ТГРТ, Кремлевский сад, для шествий предназначалась улица Коммунаров.
Таким образом, повседневная жизнь трибунальных служащих в регионах в годы Гражданской войны включала повседневность служебную и бытовую. Круг служебных обязанностей и пространство частной жизни трибунальцев определяли требования законодательства и должностных инструкций, устанавливавших порядок службы (они нередко нарушались, что объяснялось особенностями возрастного состава и социального положения служащих, невысоким уровнем их подготовки и ситуацией кадрового дефицита); гражданская война и обусловленная ей чрезвычайность полномочий трибуналов; имущественное и семейное положение трибу-нальцев (невысокие доходы работников трибуналов компенсировались стабильностью их получения и значительным объемом государственной поддержки).