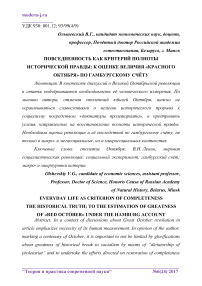Повседневность как критерий полноты исторической правды: к оценке величия "красного октября" по гамбургскому счёту
Автор: Ольшевский В.Г.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (24), 2017 года.
Бесплатный доступ
В контексте дискуссий о Великой Октябрьской революции в статье подчёркивается необходимость её человеческого измерения. По мнению автора, отмечая столетний юбилей Октября, важно не ограничиваться славословиями о величии исторического прорыва к социализму посредством «диктатуры пролетариата», а предпринять усилия, направленные на восстановление полноты исторической правды. Необходима оценка революции и её последствий по гамбургскому счёту, не только в макро- и мегасоциальных, но и микросоциальных контекстах.
Столетие октября, в.и. ленин, мировая социалистическая революция, социальный эксперимент, гамбургский счёт, макро- и микроуровни истории
Короткий адрес: https://sciup.org/140271953
IDR: 140271953
Текст научной статьи Повседневность как критерий полноты исторической правды: к оценке величия "красного октября" по гамбургскому счёту
Революции - локомотивы истории Карл Маркс Революция - варварский способ прогресса Жан Жорес
Сложность 100-летнего юбилея Октябрьской революции предопределяется тем, что в современном российском обществе до сих пор нет устоявшейся её оценки. Основной вопрос был сформулирован предельно чётко ещё до печально известного ГКЧП: «Октябрь 1917: Величайшее событие века или социальная катастрофа?» [см.: 26]. Уже тогда указывалось на невозможность его однозначной трактовки. Официальную оценку событиям 1917 г. российской власти высказал в 2016 г. министр культуры В.Р. Мединский во время круглого стола, посвященного 100-летию Великой российской революции. Он констатировал, что русская революция в общественном сознании сегодня одновременно и сакрализирована, и проклята. Как представитель правительства и одновременно человек науки – доктор политических и доктор исторических наук, он подчеркнул: «Подготовка к грандиозной дате, столетию Великой русской революции, будет пронизывать всю научную мысль и многие научные дискуссии в ближайшее время. Произошедшая в 1917 году она всегда останется одним из важнейших событий ХХ века. При всем расхождении взглядов почти столетней давности, мы не можем отрицать тот факт, что сама попытка построения на земле справедливого общества, самым решающим образом изменила пути исторического развития не только России, но и оказала огромное влияние на прогресс народов всей планеты. Революционная трансформация России положила начала новому глобальному мировому проекту» [цит. по: 47].
Министр культуры использовал здесь терминологию других авторов [см. 33], в частности, В.Б. Павленко, опирающегося на методологически небезупречную концепцию глобальных проектов, введённую в современную политическую науку М.Л. Хазиным, С.И. Гавриленковым с
«благословления» основного рецензента их работ профессора М.В. Коллонтая. Однако, маниакально исповедуемую В.И. Лениным идею и попытку осуществления мировой пролетарской революции, нельзя считать социально справедливыми. Ведь в контексте мировой истории Ленин был первым глобалистом, готовым любыми средствами подчинить «диктатуре пролетариата» всех инакомыслящих. Как писал Н.М. Коняев, «будучи последовательным материалистом, Ленин произвольно, не соотносясь с реальной обстановкой, осуществлял свои действия так, как будто мир и управлялся из того центра, в котором находился он сам. Только такое устроение мира было правильным и разумным, по его глубочайшему, не подвластному никакому анализу и критике, убеждению, а любое другое – нелепым, ошибочным, иррациональным».
«Ленин, – писал А.B. Луначарский, – никогда не оглядывается на себя, никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает даже о том, что о нём скажет потомство, – он просто делает своё дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для него сладостна, а потому что он уверен в своей правоте и не может терпеть, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие вытекает из его огромной уверенности в правильности своих принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для политического вождя) становиться на точку зрения противника» [цит. по: 9].
Ничего общего с социальной справедливостью не имела и попытка уничтожения в России считающихся причинами неравенства людей товарного производства, рынка, денег, других стоимостных категорий. Предпринятая большевиками в 1918-1921 гг. в форме прямой «красногвардейской атаки на капитал», а впоследствии, в модифицированном виде, – в течение всей истории советской власти, она была замалчиваемой и основательно забытой (по крайней мере в отношении уничтожения денег) в советской историографии и до сих пор остаётся в деталях малоизвестной [см.: 28; 30; 31]. Приходится признать недостаточную осведомлённость о событиях 1917 и последующих лет не только молодёжи и большей части населения России, постсоветского пространства в целом, но и части исторического сообщества.
Подготовка к юбилею активизировала историческую науку. Солидными иллюстрациями уже проделанной в традиционном духе работы стали две книги о Ленине В.Т. Логинова (переизданная в 2016 г. под новым названием публикация 2010 г. и новая книга 2017 г.) [23; 24], а также появившаяся недавно, претендующая на оригинальное толкование постреволюционной советской истории книга более чем в 1200 страниц, авторы которой называют Красный Октябрь 1917 года вершиной Великой российской революции [41].
Однако тревожит то, что самую высокую юбилейную активность проявляют крайне левые силы политического ландшафта России, призывающие к новой социалистической революции, допускающие возможность не только мирных, но и немирных, следовательно, насильственных форм борьбы за «социалистическое будущее России», склонные к замалчиванию реальных противоречий нашего исторического прошлого. Об этом свидетельствует опубликованная информация о двух заседаниях созданного КПРФ Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшихся 26 января и 25 мая юбилейного года [см. 6; 43]. Нельзя не обратить внимание на то, что на втором заседании комитета
1991 г. был назван победой реставраторов, буржуазной революцией. Прозвучали и призывы объединить вокруг КПРФ «все антиолигархические и атикомпрадорские силы» в целях победы на предстоящих выборах [6]. Как видно, история повторяется, большевистский раскол общества не ушёл в прошлое. В 1917 г. отказ русских офицеров поддержать вынесенного демократической волной на вершину власти, вытесняемого большевиками, А.Ф. Керенского привёл к развалу Российского государства. В период «перестройки» саботаж большевистской партноменклатурой назревших политических и экономических реформ, начатых с ошибками и глупостями М.С. Горбачёвым, расколол правящую партию. Как говорили в кулуарах информированные люди, замшелые консерваторы, неспособные «поступиться принципами» пещерного, диктаторского большевизма, «валили» при помощи части спецслужб сначала популиста Б.Н. Ельцина, а затем прорвавшегося в Президенты и относительную независимость от партийного аппарата Генерального секретаря, попутно создав условия для развала (по форме - самоликвидации) действительно могучей страны. Единая партия цементировала единый Союз. Когда эта скрепа была разрушена, страна была обречена. Знаменитый ответ П.А. Столыпина критикам всех мастей: «Нам нужны не великие потрясения, нам нужна Великая Россия» в современной России вновь актуален.
Особый интерес представляет весьма содержательное и характерное для наших традиционных оценок исторического прошлого выступление на заседании комитета 26 января профессора, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова В.Т. Третьякова, изложенное в статье «Как нам отмечать 100-летие Октября 1917 года», имеющей подзаголовок «Когда молчание не золото, а преступление перед собственной и мировой историей» [46]. Статья интересна, прежде всего, далеко не полным, по признанию автора, обоснованием всемирно исторического значения «Великой Октябрьской революции» (без «социалистической») в мировой истории и истории самой России. Каждое из приведённых восьми положений достойны внимания, по каждому из них можно дискутировать с пользой для углубления понимания юбилейного события. Вследствие отсутствия возможностей развёрнутой дискуссии, выделим здесь лишь основные идеи автора.
По оценке мэтра российской журналистики, величие красного Октября предопределяется, наряду с другими обстоятельствами, тем, что «именно в результате Октябрьской революции (прихода к власти большевиков) Россия под названием Советский Союз стала одной из двух мировых сверхдержав, достигнув своего максимального за всю историю могущества и влияния...
Большевистская партия сознательно пошла на один из величайших социально-политических экспериментов в истории человечества. Пожалуй, невозможно назвать другой, сопоставимый по масштабам и новизне, такой пример. Этот эксперимент успешно продолжался почти три четверти века и хотя и завершился в конечном счёте неудачей, не может быть вычеркнут из исторического опыта человечества ни в своей негативной части, ни, что гораздо важнее, в своей положительной ипостаси...
Большевики первыми в мире попытались в таких масштабах реализовать одну из величайших утопий человеческой цивилизации – построение бесклассового и лишённого расовых, сословных, имущественных и прочих антагонизмов общества и государства (фактически - «Рая на земле»). Этого не удалось сделать. Возможно, потому, что никакую утопию воплотить в жизнь нельзя, но попытка была, и дерзновенность её сопоставима с масштабами самой человеческой истории и уступает разве что появлению и развитию великих религиозных проектов, в частности – христианства.
…Октябрьская революция привела к появлению в России двух величайших политиков из числа 5-6, которые вообще могут быть отнесены к таковым в мировой истории ХХ века. Это, разумеется, Ленин и Сталин, несмотря на то, что оценки их деятельности могут быть самыми разнообразными и самыми противоречивыми» [46]. Жаль только, что автор не указал, кто ещё кроме вождей мирового пролетариата входит в число величайших политиков ХХ века, это помогло бы понять характер их величия.
В подобных свойственных нам, казалось бы, возвеличивающих наше Отечество рассуждениях, не хватает одного. Того, что в период «перестройки» было обозначено как человеческое измерение явлений общественной жизни, в том числе и жертвенного социализма названного «успешно продолжавшимся почти три четверти века экспериментом». Можно согласиться с В.Т. Третьяковым в том, что «постыдно замалчивать историческое событие такого масштаба на его родине и в год его столетнего юбилея», но его нужно освещать без умолчаний, граничивших с «нас возвышающим обманом». Вопрос о цене «исторических завоеваний» и ответственности за них далеко не праздный. Ведь не только очернители нашего прошлого, но любой гуманитарно мыслящий человек может вспомнить о том, что ещё «железный канцлер» Германии О. фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815-1898) признавал симпатичность и привлекательность социалистических идей, но при этом считал, что для их реализации необходимо найти народ, который не жалко. Великий русский писатель Ф.М. Достоевский (1821-1881) предупреждал, что идеи коммунизма – той самой утопии о «Рае на земле» – обойдутся в 100 миллионов человеческих жизней. Сам В.И. Ленин (1870-1924), считавший благом поражение российского отечества в мировой войне, призывавший к превращению войны «империалистской» во всемирную гражданскую войну, знающий о прогнозе К. Маркса о том, что пролетариату понадобятся 10-20-30-50 лет войн для установления своего мирового господства, проговорился в полемической беседе с Г.А. Соломоном (Исецким): «Дело не в России, на неё, господа хорошие, мне наплевать, – это только этап, через который мы проходим к мировой революции!..» [42, с. 9]. Комментируя это высказывание вождя, характеризуя большевиков, Соломон впоследствии писал: «Poccии, родины у них нет. Для них существует только партия. Россия для них – что-то вроде кролика для их партийных экспериментов» [35].
Современники в России были отнюдь не в восторге от таких дерзновений. А.М. Горький, пожертвовавший большевикам на революционную деятельность до захвата ими власти сотни тысяч рублей из своих литературных гонораров, писал в издаваемой им газете «Новая жизнь» 10 (23) декабря 1917 г.: «Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них – та лошадь, которой учёные-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обречённый на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть. Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают её в жертву своей грёзе о всемирной или европейской революции» [5, с. 87].
«Рефрен» многих дооктябрьских и послеоктябрьских выступлений Ленина «Да здравствует мировая социалистическая революция!» основательно забыт восторженными поклонниками «Великого Октября». Между тем, Ленин неоднократно повторял, что захват власти был осуществлён большевиками исключительно в уверенности и надежде на скорую мировую революцию. «…Пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы», – говорил он на заседании Петроградского совета 25 октября (7 ноября) 1917 г. [12, с. 3]. «Все наши надежды на окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом научном предвидении», – писал он в январе-феврале 1918 г. [13, с. 245]. В первые годы советской власти мировую революцию ждали буквально с дня на день. «Победа пролетарской революции во всём мире обеспечена. Грядёт основание международной Советской республики», – говорил вождь на I конгрессе Коминтерна [17, с. 511]. Выступая перед слушателями первых московских советских курсов 15 апреля 1919 г., он обещал: «Вы в скором времени увидите, как образуется Всемирная Федеративная Республика Советов» [18, с. 299-300].
Мировую революцию не просто ждали, большевики считали её собственной задачей и всячески её подталкивали. Ленин говорил на VII экстренном съезде РКП (б) 6 марта 1918 г.: «…Величайшая трудность русской революции, её величайшая историческая проблема: необходимость решить задачи международные, необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконациональной, к мировой» [20, с. 8].
Министр иностранных дел Австро-Венгрии Оттокар Чернин писал в свои мемуарах о своей беседе во время Брест-Литовских мирных переговоров с участником советской делегации, вскоре возглавившим её, А.А. Иоффе. Услышав от своего собеседника, что большевики допускают возможность гражданской войны во всём мире в результате своей международной политики, Чернин заявил, «что надо было бы раньше России доказать, что большевизм начинает новую счастливую эпоху, и лишь затем завоевывать мир своими идеями. Прежде чем, однако, доказательство на этом примере не будет сделано, Ленину будет довольно трудно принудить мир разделить его воззрения. Мы готовы заключить всеобщий мир без аннексий и контрибуций и ничего не имеем против того, чтобы вслед за тем русские порядки развивались так, как это кажется правильным русскому правительству. Мы также готовы научиться чему-либо у России, и если её революция будет сопровождаться успехом, то она принудит Европу примкнуть к её образу мыслей, хотим ли мы этого или нет. Но пока уместен самый большой скептицизм, и я указал ему, что мы не собираемся подражать русским порядкам и категорически запрещаем всякое вмешательство в наши внутренние дела… Господин Иоффе смотрел на меня удивлённо своими мягкими глазами. Он помолчал немного и затем сказал навсегда оставшимся у меня в памяти дружественным, я бы сказал, почти просящим тоном: я всё же надеюсь, что нам удастся и у вас устроить революцию...» [цит. по: 9, с. 44-45].
Абсолютная уверенность в неизбежности мировой революции, в необходимости непримиримой борьбы не на жизнь, а на смерть с «мировой буржуазией» стала самым тяжёлым стратегическим просчётом Ленина, не только потребовавшим больших затрат в течение всей истории советской власти, но и надолго усложнившим международное положение Советской России, а затем и СССР, обусловившим широкое применение насильственных методов во внутреннем «социалистическом строительстве».
В 1920 г., прочитав в посвящённой ему книге Н.И. Бухарина (18881938) «Экономика переходного периода» чеканную фразу: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это не звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», Ленин подчеркнул часть её, начиная со слов «методом выработки», на полях отчеркнул эту часть текста тремя чертами и написал: «Именно!». Критически оценивая книгу Бухарина в целом, потребовав снять в уже выпущенных экземплярах посвящение «Революционеру мысли и действия, горячо любимому учителю, товарищу и человеку…», на полях главы под названием «”Внеэкономическое” принуждение в переходный период», из которой взята приведённая цитата, Ленин написал: «Вот эта глава превосходна!» [2, с. 168; 21, с. 424]. Это не было лишь теорией. После захвата власти среди расстрелянных, взятых в критических эпизодах военной и хозяйственной борьбы заложников, в тюрьмах и в созданных впервые в истории человечества концентрационных лагерях оказались не только аристократы, буржуи, священники, белогвардейцы, инакомыслящие интеллектуалы, служащие, но и рабочие и крестьяне. А «демон русской революции» Л.Д. Троцкий (1879-1940), организовавший вместе с другими членами Политбюро и Петроградского военно-революционного комитета захват власти в северной столице к дню своего рождения, остающийся в течение первых лет советской власти вторым после Ленина человеком в партии большевиков, с присущим ему апломбом говорил: «Русский народ - дрова в топке мировой революции...» -людоедский по отношению к своим соотечественникам афоризм, со временем трансформировавшийся из строк стихов А. Блока в почти официальную «агитку»: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Созданный в 1919 г. Коммунистический интернационал, обещал бороться «всеми доступными средствами, включая свержение международной буржуазии, за создание международной Советской республики в качестве переходной стадии на пути к полному уничтожению государства». Это было прямой угрозой национальной безопасности всех «буржуазных» стран мира, что чрезвычайно усугубило конфликтность мирового развития в ХХ веке. О том, что в «классовых битвах» и связанных с ними пожарах и потрясениях «сгорели» миллионы не только «буржуев», мы уже хорошо знаем. По оценкам специалистов, современное население России примерно в два раза меньше, чем оно могло бы быть согласно прогнозам, сделанным, исходя из тенденций его динамики в начале ХХ века [см.: 7; 44].
Совсем не случайно то, что 2017 год войдёт в историю России, россиян и русских, живущих за пределами Отечества не только как год столетнего юбилея Октябрьской революции, но и как Год экологии - «пересечения» в высшей степени символичного. История бывшей Российской империи показала, что экология - не только окружающая человека природная среда, это в первую очередь экология социума, человека, находящегося в определённой системе общественных отношений. В этом контексте маэстозные, торжественно-величальные оценки начатого большевиками в октябре 1917 г. братоубийственного конфликта с перспективой распространения его на весь мир по гамбургскому счёту свидетельствуют о недомыслии или социальном нездоровьи в научном смысле [см.: 40] некоторых политиков, идеологов, журналистов, тех, кто всё ещё «идёт за большевиками», постсоветских социумов в целом.
Отмечая столетний юбилей Октября, важно не ограничиваться славословиями о величии исторического прорыва к социализму – избирательной социальной справедливости посредством «диктатуры пролетариата» на фоне демонстрируемого в современных условиях возвращения к заповедям Христовым, а предпринять усилия, направленные на восстановление полноты исторической правды, сделать выводы, необходимые для духовного оздоровления социума [см.: 29].
Стоит вспомнить, что начало традиции сакрализации «Великой Октябрьской социалистической революции» в международных масштабах было положено американским журналистом Джоном Ридом в книге, опубликованной впервые в Нью-Йорке в марте 1919 г. [50]. Не скрывающий своих симпатий к радикальным российским революционерам автор писал в предисловии: «Русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков – явление мирового значения» [39, с. 13]. Ознакомившийся с англоязычным оригиналом книги В.И. Ленин согласился написать вступление к её второму изданию, появившемуся в том же издательстве в 1922 г., в котором он писал: «Эту книгу я желал бы видеть распространённой в миллионах экземпляров и переведённой на все языки, так как она даёт правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата» [39, с. 5]. Во исполнение указания Ленина в 1923 г. московское издательство
«Красная новь» опубликовало полный русский перевод книги Дж. Рида. Однако уже в 1924 г. И.В. Сталин заявил, что американский журналист переоценил роль Л.Д. Троцкого в революции. В соответствии с его фактической деятельностью, Троцкий был показан в книге как один из самых главных организаторов и руководителей революции, наряду с Лениным, а имя Сталина в ней вообще не упоминалось. По этой причине книга оказалась в спецхранах, и хотя не запрещалась, но в СССР до 1957 г. не переиздавалась. В течение длительного времени «Великая русская революция» трактовалась в духе лично отредактированного и частями написанного или переписанного Сталиным «Краткого курса истории ВКП (б) [см.: 8; 10].
Попутно заметим, что Дж. Рид, посвятивший свою книгу, по его словам, «Красному Петрограду», мягко говоря, недостаточно знал фактическое положение страны, историю революционного движения в
России, нюансы отношений в рядах российских революционеров и особенности «загадочной русской души», проявившиеся после Октября разгулом террора и репрессий. Он не стал свидетелем сталинского перерождения партии большевиков и «исправления» истории Октября. В конце апреля 1918 г.
он вернулся в Нью-Йорк, совершил около 20
агитационных поездок по США, выступая в защиту «русской революции», 5
раз привлекался к судебной ответственности по обвинению в «антиамериканской деятельности», в августе-сентябре 1919 г. стал одним из основателей Коммунистической рабочей партии США. После возвращения в октябре 1919 г. в Советскую Россию был избран членом Исполкома Коминтерна. Много ездил по стране, собирал материалы для новой книги «От Корнилова до Брест-Литовска». Но 19 октября 1920 г. в возрасте 32 лет умер в Москве от сыпного тифа. Он похоронен на Красной площади у
Кремлёвской стены.
Сами большевики в оценке того, что впоследствии было названо «Великой Октябрьской Социалистической Революцией», были достаточно скромными, называя её «Октябрьским переворотом». Ленин говорил 6 ноября 1918 г. на торжественном собрании: «Мы собираемся сегодня на десятки и сотни митингов, чтобы праздновать годовщину Октябрьского переворота» [19, с. 132; 27]. Вплоть до 1926 г. в автобиографиях, статьях и книгах большевиков использовалась именно эта формула. Все герои Октября, в том числе Ленин и Сталин, писали: после Февральской революции большевики начали подготовку к Октябрьскому перевороту. Иными словами, большевики и их лидеры признавали, что в октябре 1917 г. произошла не пролетарская революция, а захват власти [49]. Известный экономист и партийный публицист, племянник издателей биографического словаря братьев Гранат Ю. Ларин (М.З. Лурье) в первую годовщину Октября подтверждал: «Рабочая по форме революция по существу была ещё крестьянской; глухая стена крестьянской диктатуры сковывала нас на каждом шагу» [11, с. 21]. В октябре 1921 г. сам Ленин писал о том, что непосредственной и ближайшей задачей Октябрьской революции была «задача буржуазно-демократическая» и подчёркивал: «Мы вполне сознательно, твёрдо и неуклонно продвигаемся вперёд, к революции социалистической» [14, с. 144, 145]. В студенческие годы нас учили: социалистическая революция в России только началась захватом власти и продолжалась в течение довольно длительного периода создания экономических основ социализма.
Как уже упоминалось, для понимания того, что произошло в октябре 1917 г. необходима оценка по гамбургскому счёту. Уточним, что «Гамбургский счёт» – это идиома русского языка, «изобретённая» выдающимся русским, советским писателем, литературоведом и литературным критиком Виктором Шкловским, обозначающая «подлинную систему ценностей, свободную от сиюминутных обстоятельств и корыстных интересов» [48]. Согласно преданию, это название подсказал писателю знаменитый цирковой борец Иван Поддубный. Рассказанная им история легла в основу притчи-пролога книги: «Гамбургский счёт - чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, – чтобы не исхалтуриться».
В контексте литературной критики “гамбургский счёт” означает абсолютно беспристрастную, нелицеприятную оценку произведений, он объективно расставляет приоритеты, показывает реальную значимость того или иного творения. Вскоре после выхода упомянутой книги это выражение приобрело популярность и стало использоваться не только в литературе, но и искусстве вообще. А в наши дни “гамбургский счёт” может вестись и вовсе в далёких от культуры областях человеческой деятельности.
Словосочетание “по гамбургскому счёту” - это гибрид крылатого выражения Шкловского и не менее крылатого выражения “по большому счёту” Вениамина Каверина, которое по своей сути копирует смысл первого, вследствие чего и произошло их слияние» [22]. Всё же, идиома «по гамбургскому счёту» по глубине содержания и смысловым оттенкам намного богаче словосочетания «по большому счёту».
«В литературе, как и в спорте, важен гамбургский счёт. Значение фразеологизма в контексте литературной критики заключается в том, что в литературе, как и в борьбе, любая фигура может оцениваться по двум системам. Для первой важна официальная “расстановка” сил, а для второй -реальная. В первом случае в литературе важны формальные показатели успешности автора и произведения, а во втором - настоящий масштаб его дарования.
Одна из сфер употребления выражения “гамбургский счёт” -экономическая. Этимология и значение фразеологизма таковы, что оно может быть использовано в том смысле, что экономические отношения строятся на честных, открытых принципах, когда все стороны договора равны и формально, и по сути» [4].
Очевидно, не будет преувеличением утверждение о том, что принципы гамбургского счёта необходимо применять и в отечественной истории, в частности для очищения её от сохранившихся наслоений «краткого курса истории ВКП (б)». Это необходимо ещё и потому, что важной особенностью нашего сформированного на предыдущих этапах исторического развития социума, является значимый разрыв между сконструированным на основе умозрительных представлений о справедливом общественном устройстве «должным» и отличающимся от него «сущим». Различия между мифологизированным фасадом динамично устремлённого в светлое будущее советского общества и отодвинутой на задний план его «изнанкой», условиями повседневного обыденного существования абсолютного большинства населения чрезвычайно многообразной, многонациональной, многоуровневой и поликультурной страны весьма значительны. Преодоление или, по меньшей мере, смягчение этого разрыва, в том числе и разрыва между сконструированными мифологемами и фактически имевшим место в истории является сегодня одновременно потребностью и условием оздоровления индивидуального и общественного сознания. В этом контексте особое значение приобретает изучение истории советской повседневности, точнее - истории советского общества на микроуровне с применением методологии структур повседневности.
Российские специалисты считают историю повседневности (everyday life history, Alltagsgeschichte, histoire de la vie quotidienne) новой отраслью исторического знания, предметом изучения которой является «сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории повседневности комплексное исследование повторяющегося, “нормального” и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоёв, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения». При этом подчёркивается, что «повседневность – первична, безусловна для всех людей, везде и всегда, хотя и неоднородна, неодинакова по содержанию и значению» [37].
На самом деле, по признанию того же автора [36], история повседневности как отрасль исторического знания не так уж нова, она формировалась в рамках так называемого «историко-антропологического поворота» в мировой гуманитарной мысли с конца 60-х гг. XX века. Но ещё задолго до этого мировая философия стала задумываться о значимости того, что окружает индивида изо дня в день. Источниками истории повседневности послужили работы философов Э. Гуссерля (1859-1938), Й. Хёйзинги (1872-1945), А. Шютца (1899-1959), социологов Н. Элиаса (1897-1990), Г. Маркузе (1898-1979), П. Бергера (р. в 1929), Т. Лукмана (1927-2016), Г. Гарфинкеля (1917-2011), А. Сикуреля (р. в 1928), культурологов и антропологов К. Гирца (1926-2006), А. Лефевра (19011991), историков школы «Анналов» М. Блока (1886-1974), Л. Февра (18781956), Ф. Броделя (1902-1985) и других учёных. В мировой, в том числе и российской, описательной историографии история повседневности имеет ещё более глубокие корни. В частности, во второй половине XIX – начале ХХ вв. были опубликованы работы А.В. Терещенко (1806-1865), Н.И. Костомарова (1817-1885), И.Е. Забелина (1820-1908), Э. Виолле-ле-Дюка (1814-1879), П. Гиро (1850-1907), Эд. Фукса (1870-1940) и других, посвящённые различным аспектам быта, повседневной жизни.
Первая волна интереса к повседневности концентрировала внимание на вопросах, далёких от политически значимых событий: макро– и микросреда обитания: город, деревня, жилище (в его обращенности вовне, наружу, и внутреннее пространство, включая интерьер, мебель, утварь, и т. д.); тело и заботы о его природных и социокультурных функциях: питание, гигиена, врачевание, одежда; обряды перехода: рождения, создания семьи; семейные, а также межличностные отношения в профессиональных, конфессиональных и других микросоциальных группах; досуг: развлечения, семейные и общественные праздники и обряды. Впоследствии повышаются роль и значение исторических описаний душевных переживаний людей, любви и ненависти, воспоминаний, тревог и надежд на будущее. На этом фоне принципиально менялось традиционное представление о том, какой должна быть история: она выстраивалась не сверху, через восприятие «сильных мира сего», и не через официальный дискурс, а «снизу» и «изнутри». Тем самым снималась оторванность изучения общества от изучения индивида, подчёркивалась значимость того, что окружает индивида изо дня в день. На протяжении веков обычные мнения, чувства, переживания, способы поведения людей считались началом теоретического мышления, противопоставляемого «ненаучному», «примитивному» обыденному знанию, здравому смыслу. В XX в. акцент постепенно стал смещаться в пользу «обыденного». Обыденное сознание, психология, здравый смысл, каждодневные практики были названы структурами повседневности - универсальными предпосылками всех форм познавательной активности, составным элементом истории, которая вовсе не сводится к политической истории.
В 1970-е гг. ХХ в. история повседневности объединилась в единое научное направление с микроисторией, концентрирующейся на жизненных судьбах рядовых людей и социальных групп, носителей повседневных интересов, а через них - на проблемах культуры как способа понимания повседневной жизни и поведения в ней. Последующее развитие характерно стремлением к комплексному охвату как материально-предметных, так и ментальных структур повседневности, учёту макроисторических и микроисторических событий в их взаимодействии и взаимовлиянии. Тем самым историческая наука выявила пути, позволяющие приблизиться к пониманию исторического прошлого через его субъекта и носителя - самого человека.
В современном понимании повседневность - довольно сложный и многоаспектный феномен, который может рассматриваться с различных точек зрения. Она изучается многими науками, в философии, социологии, культурологии, психологии, истории трактуется по-разному [см.: 3; 25; 32; 45]. Анализ и обобщение имеющихся источников по проблеме позволяет выделить следующие наиболее значимые её характеристики. Повседневность охватывает неосязаемые на уровне макросоциального анализа глубины общественной жизни, её «изнаночные стороны». Это -ойкумена субъекта социума, его среда, которая находится не вне его, как нечто объективное, а является его органической частью. Это сфера, в которой люди пользуются исключительно собственным умом в пределах допустимой с точки зрения здравого смысла автономии от общества с его структурами власти, в которой подспудно формируется остов личности, его жизненный каркас. Повседневность характерна признанием приоритета практического опыта над абстрактно-логическим теоретическим знанием, максимальной свободой от мифологизации общественного сознания в текущих интересах власть предержащих. Поэтому она выступает как «место максимального потенциального обитания достоверного знания» [45]. В истории повседневность трактуется как реальность, которая интерпретируется людьми разных социальных групп, имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного мира, определяющая их поведение и эмоциональные реакции на события. С этих позиций может быть оценена и Октябрьская революция 1917 г.
Естественно, что большевистская революция и деятельность народных комиссаров воспринималась различными социальными группами и отдельными индивидами по-разному. Первые декреты советской власти (О мире, О земле, О восьмичасовом рабочем дне, Об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов) были направлены на удовлетворение требований рабочих и крестьян с целью заручиться их поддержкой и укрепления своего шаткого положения. Рабочие, временно ставшие хозяевами заводов и фабрик, способными в любое время путём голосования на митингах объявить выходные дни, крестьяне, получившие или закрепившие за собой захваченную ранее землю, опять-таки временно распоряжающиеся землёй и произведённым продуктом, солдаты, в том числе и дезертиры, ставшие «вольными стрелками» с сохранением оружия, были довольны, хотя постоянно требовали улучшения своего положения в условиях необузданной инфляции (цены в 1917 г. выросли более чем на 683%). Но большинство образованных, политически активных граждан считали новую власть нелегитимной. После закрытия и запрета газет, критикующих власть, объявления кадетов «врагами народа», создания ВЧК, разгона Учредительного собрания даже многие нейтральные люди стали в оппозицию, усиливаемую увеличением количества евреев во власти в центре и на местах. Впечатляет и обоснованная критика программ и действий большевиков выдающимися учёными-гуманитариями (Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, П.Б. Струве), писателями и поэтами (А.М. Горький, В.Г. Короленко, М.М. Пришвин, Л.Н. Андреев), многочисленными представителями интеллигенции, вскоре потерявшими Родину, оказавшимися пассажирами «Философских пароходов». «Блевотиной войны» назвала З. Гиппиус «октябрьское веселье». Были и представители художественной интеллигенции, полагающие, что революция облегчит им поиск новых форм в творчестве [см. подробнее 1] В целом, микроистория свидетельствует о том, что «триумфальное шествие советской власти» – продолжение Великой революции - было не таким уж триумфальным и потребовало определённого «озверения» противоборствующих сторон.
Синтезируя микро-, макро- и мегаподходы к Октябрю, можно констатировать:
Празднование юбилея «Великой Октябрьской революции» без указания на её «социалистическую» направленность искажает её фактическое содержание и значение. По многочисленным признаниям Ленина и Троцкого, переворот осуществлялся исключительно в уверенности и в надежде на то, что он приведёт к установлению «диктатуры пролетариата» во всём мире. Ленин говорил на I конгрессе Коминтерна: «Необходимо только найти ту практическую форму, которая даст возможность пролетариату осуществить своё господство. Такой формой является советская система с диктатурой пролетариата. …Пролетариат теперь в состоянии практически использовать своё господство» [16, с.132].
«Положительная ипостась», по словам В.Т. Третьякова, «величайшего социально-политического эксперимента в истории человечества» несопоставима с его «негативной частью». Даже если рассматривать его как призыв «Сильные мира сего сильны лишь постольку, поскольку мы стоим на коленях, - поднимемся же!», продолжавшийся почти три четверти века эксперимент не был успешным ни для человечества, ни для народов России. Раскол мира на две непримиримо враждебных системы предопределил глобальные катаклизмы ХХ века. Внутри страны он начался и продолжался беспрецедентным в истории человечества насилием по отношению к своему народу во имя построения «Рая на земле» и может быть охарактеризован известным пророчеством П.Я. Чаадаева в «Философическом письме» 1838 г.: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретём себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать» [цит. по: 38].
Начатая Октябрём попытка реализации «одной из величайших утопий человеческой цивилизации» действительно поражает своей дерзновенностью, но её нельзя, не впадая в кощунство и смертный грех перед Богом, сравнивать с христианством. Хотя его католическая ветвь прошла через инквизицию и крестовые походы, но всё же заповеди Христовы проникнуты человеколюбием и общечеловеческой моралью, которые начисто отвергали большевики. Достаточно вспомнить многолетние издевательства над божьими людьми и печально известное письмо Ленина В.М. Молотову и членам Политбюро об изъятии ценностей Русской Православной церкви во время потрясшего весь мир голода в России [34].
Октябрь нельзя считать «вершиной Великой Революции». Её «зияющие высоты» ещё были впереди.
Лучшим способом отметить юбилей Великой революции является обеспечение полноты исторической правды и, в соответствии с заветом Ленина, будничное сосредоточение внимания на нерешённых задачах [15, с. 221], но не её – революции, как писал вождь мирового пролетариата, а развития России и её соседей по постсоветскому пространству.
Список литературы Повседневность как критерий полноты исторической правды: к оценке величия "красного октября" по гамбургскому счёту
- Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. Русская интеллигенция и большевистская революция: в хаосе событий и в смятении чувств (25 октября -7 декабря 1917 г.)//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2007. № 1. С. 135-148. URL: http://kurs.znate.ru/download/docs-159010/159010.doc (дата обращения: 20.06.2017).
- Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат, 1989. 512 с.
- Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности//Социо-Логос. Вып. 1. Общество и сферы смысла: Сборник/Пер. с англ., нем., франц. Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 17 -23.
- «Гамбургский счёт»: значение фразеологизма и происхождение. URL: http://fb.ru/article/171604/gamburgskiy-schet-znachenie-frazeologizma-i-proishojdenie (дата обращения: 20.06.2017).
- Горький М. Несвоевременные мысли: заметки о революции и культуре; Рассказы/Сост. А.В. Диенко. М.: Современник, 1991. 128 с.
- Заседание Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. URL: http://kprftlt.ru/?p=6734 (дата обращения: 18.06.2017).
- Извеков Н. Очерк демографического развития России в ХХ веке//Обозреватель -Observer. 2001. № 5-6. URL: http://observer.materik.ru/observer/N5-6%20_01/5-6_23.HTM (дата обращения: 17.06.2017).
- История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс/Под ред. Комиссии ЦК ВКП (б). Одобрен ЦК ВКП (б). М.: Партиздат, 1938. Репринтное воспроизведение стабильного издания 30-40-х годов. М.: Писатель, 1997. URL: http://www.alleng.ru/d/hist051.htm (дата обращения: 13.06.2017).
- Коняев Н.М. Трагедия ленинской гвардии, или правда о вождях октября. М.: Алгоритм, 2007. 576 с.
- Краткий курс истории ВКП(б). Материал из Википедии -свободной энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Краткий_курс_ истории_ВКП(б) (дата обращения: 13.06.2017).
- Ларин Ю. У колыбели//Народное хозяйство, 1918. № 11. С. 16-23.
- Ленин В.И. Заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 г. Резолюция//Полн. собр. соч. Т. 35. М.: Политиздат, 1981. С. 2-3.
- Ленин В.И. К истории вопроса о несчастном мире//Полн. собр. соч. Т. 35. М.: Политиздат, 1981. С. 243-252.
- Ленин В.И. К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции//Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Политиздат, 1982. С. 144-152.
- Ленин В.И. О значении золота теперь и после полной победы социализма//Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Политиздат, 1982. С. 221-229.
- Ленин В.И. I Конгресс Коммунистического интернационала 2-6 марта 1919 г. Речь при открытии Конгресса 2 марта//Полн. собр. соч. Т. 37. М.: Политиздат, 1981. С. 489.
- Ленин В.И. I конгресс Коммунистического интернационала 2-6 марта 1919 г. Заключительная речь при закрытии Конгресса 6 марта//Полн. собр. соч. Т. 37. М.: Политиздат, 1981. С. 511.
- Ленин В.И. Речь на первых московских советских командных курсах 15 апреля 1919 г.//Полн. собр. соч. Т. 38. М.: Политиздат, 1981. С. 299-300.
- Ленин В.И. Речь на торжественном заседании Всероссийского центрального и Московского советов профессиональных союзов 6 ноября 1918 г.//Полн. собр. соч. Т. 37. М.: Политиздат, 1981. С. 132-133.
- Ленин В.И. Седьмой экстренный съезд РКП(б) 6-8 марта 1918 г. Политический отчёт Центрального комитета 7 марта//Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Политиздат, 1981. С. 3-26.
- Ленинский сборник XL. М.: Политиздат, 1985. 512 c.
- Лисовский Е. Гамбургский счёт. URL: http://newslab.ru/article/173197 (дата обращения: 20.06.2017).
- Логинов В.Т. Ленин в 1917 году. На грани возможного. М.: Эксмо, Алгоритм, 2016. 576 с.
- Логинов В.Т. Заветы Ильича. «Сим победиши». М.: Алгоритм, 2017. 623 с.
- Марков Б.В. Теория познания и структуры повседневности//Его же. Философская антропология. Очерки истории и теории. СПб.: Изд-во «Лань», 1997. С. 241-252.
- Октябрь 1917: Величайшее событие века или социальная катастрофа?/Под ред. П.В. Волобуева. М.: Политиздат, 1991. 240 с.
- Октябрьский переворот и диктатура пролетариата. Сб. ст./Н. Бухарин, В. Милютин, К. Радек, И. Сталин . М.: Госиздат, 1919. 324 с.
- Ольшевский В.Г. Деньги: иллюзия и фатум советского общества, или Социально-гуманитарное знание в системе национальной безопасности//Теория и практика современной науки. Международный научный журнал. 2016. № 5 (11). С. 712-730. URL: http://www.modern-j.ru/domains_ data/files/11/Olshevskiy_Statya.pdf (дата обращения: 10.06.2017).
- Ольшевский В.Г. Здоровье человека и здоровье общества в контексте коэволюционной парадигмы и столетнего юбилея Октября//Теория и практика современной науки. Междунар. науч. журнал. 2017. № 5 (23). URL: http://www.modern-j.ru/domains_data/files/23/Olshevskiy_ Statya.pdf (дата обращения: 20.06.2017).
- Ольшевский В.Г. Социально-гуманитарные науки -к синтезу с естественнонаучным знанием или Деньги в истории советского общества и современные проблемы//Гуманитарные проблемы современности: человек и общество: монография. Кн. 28/Д.Е. Барашева, Л.С. Бороненкова, И.Г. Долинина и др. Новосибирск: Изд-во Центра развития научного сотрудничества, 2016. С. 107-155.
- Ольшевский В.Г. Сто лет: объективные процессы и субъективная деятельность людей в механизмах социальных потрясений//Современные тенденции развития науки и технологий. Периодический научный сборник по материалам XXIV Международной научно-практической конференции. Белгород, 2017. № 3-7. С. 35-44. URL: http://issledo.ru/wp-content/uploads/2017/04/Sb_k-3-7.pdf (дата обращения: 10.06.2017).
- Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М.: Изд. дом Гос. ун-та -Высшей школы экономики, 2010. 317, c.
- Павленко В. Октябрьская революция как глобальный проект//Обозреватель -Observer. 2007. № 11. С. 6-18. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_13054865_ 74618508.pdf (дата обращения: 10.06.2017).
- Письмо В.И. Ленина членам Политбюро о событиях в г. Шуе и политике в отношении церкви. 19 марта 1922 г.//Архивы Кремля. В 2-х кн. Кн.1. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. М.-Новосибирск: РОССПЭН, «Сибирский хронограф», 1997. С. 140-144. URL: http://istmat.info/node/27230 (дата обращения: 25.06.2017).
- Презентация книги «Среди красных вождей. Том 1». URL: http://detectivebooks.ru/book/11633979/?page=1 (дата обращения: 16.06.2017).
- Пушкарева Н. История повседневности//Энциклопедия «Кругосвет». URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ISTORIYA_ POVSEDNEVNOSTI.html?page=3,0 (дата обращения: 19.06.2017).
- Пушкарева Н.Л. «История повседневности» как направление исторических исследований // Перспективы. 2010. N3. URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280 дата обращения: 17.06.2017).
- П. Чаадаев: Исторические судьбы России. URL: http://infopedia.su/1x1130.html (дата обращения: 25.06.2017).
- Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир/Предисл. В.И. Ленина и Н.К. Крупской. М.: Госполитиздат, 1958. 352 с.
- Рывкина И.В. Социальные болезни современной России. Публицистическое исследование. М.: Центр социального прогнозирования и исследования, 2011. 244 с.
- Славин В.Ф., Бузгалин А.В. Вершина Великой революции. К 100-летию Октября. М.: Алгоритм, 2017. 1216 с.
- Соломон Г.А. Среди красных вождей. М.: Современник, 1995. (Осмысление века: кремлёвские тайны). 509 с.
- Состоялось первое заседание Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великого Октября. URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/161901.html (дата обращения: 18.06.2017).
- Статистика демографического развития России на мировом фоне. URL: http://geolike.ru/page/gl_7301.htm (дата обращения: 17.06.2017).
- Сыров В.Н. О статусе и структуре повседневности (методологические аспекты). URL: http://siterium/trecom.tomsk.su/Syrov/s_ text11.htm (дата обращения: 20.06.2017).
- Третьяков В. Как нам отмечать 100-летие Октября 1917 года. Когда молчание не золото, а преступление перед собственной и мировой историей. URL: http://svpressa.ru/politic/article/165229 (дата обращения: 10.06.2017).
- Швец Я. 100 лет Русской революции: как относиться к юбилею? URL: http://rnk-concept.ru/16509 (дата обращения: 10.06.2017).
- Шкловский В.Б. Гамбургский счёт. Л.: Изд-во Писателей в Ленинграде, 1928. 247 с.
- Шрамко С. Забытый автор Октября//Сибирские огни. 2007. № 11. URL: http://magazines.russ.ru/sib/2007/11/sh9.html (дата обращения: 15.05.2017).
- Reed John. Ten Days that Shook the World. New York: Boni & Liveright, 1919. 371 p.