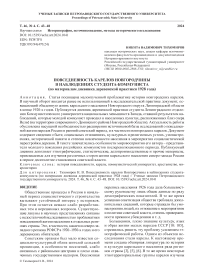Повседневность карелов Новгородчины в наблюдениях студента-коммуниста (по материалам дневника деревенской практики 1928 года)
Автор: Тихомиров Н.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 4 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизученной проблематике истории новгородских карелов. В научный оборот вводится ранее не использованный в исследовательской практике документ, освещающий обыденную жизнь карельского населения Новгородского округа Ленинградской области в конце 1920-х годов. Публикуется дневник деревенской практики студента Ленинградского отделения Коммунистического университета национальных меньшинств Запада, ставший результатом наблюдений, которые молодой коммунист проводил в населенных пунктах, расположенных близ озера Вельё (на территории современного Демянского района Новгородской области). Актуальность работы обусловлена насущной необходимостью расширения источниковой базы исследований о повседневной жизни народов России в ранний советский период, и в частности новгородских карелов. Документ содержит сведения о быте, социальных отношениях, культурных и религиозных устоях, умонастроениях, исторической памяти и степени вовлеченности населения в мероприятия социалистической перестройки деревни. В тексте запечатлелись особенности мировосприятия его автора - представителя молодого поколения российских коммунистов послереволюционного периода. Публикуемый дневник дополняет этнографические, статистические, делопроизводственные и прочие материалы, привлекаемые для изучения различных сторон жизни карельского населения северо-запада России в первое десятилетие становления советской власти.
История повседневности, карелы, коммунистический университет, крестьянство, микроистория
Короткий адрес: https://sciup.org/147243578
IDR: 147243578 | УДК: 093:94(470.24) | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1041
Текст научной статьи Повседневность карелов Новгородчины в наблюдениях студента-коммуниста (по материалам дневника деревенской практики 1928 года)
Общественные процессы в России в начальный период социалистического строительства вызывают устойчивый интерес у историков. При этом остается немало слабо разработанных тем и нерешенных вопросов. Существующие лакуны в научных представлениях связаны с недостаточной исследованностью проблематики повседневной жизни населения в отдельных регионах страны. Это, в частности, касается северо-западного региона РСФСР в 1920–1930-х годах и его деревенских обитателей.
Советским органам был мало известен социально-культурный облик жителей сельской провинции, в особенности поселений, слабо связанных с районными центрами и плохо охваченных государственным надзором. Всесоюзная перепись населения 1926 года дала большевистскому руководству лишь общие данные по ряду демографических показателей. В то же время успешная советизация общества требовала дополнительных сведений, которые отражали бы умонастроения людей, их отношение к мероприятиям и политике советской власти, степень приверженности прежним убеждениям и т. д.
Большевики, плохо знавшие культуру, язык и образ жизни малых народов СССР [10: 105], стремились решить эту проблему усилением этнографической работы. Одним из объектов исследования стали карелы. К настоящему времени создана обширная литература по истории и культуре карельского населения ряда регионов страны [3], [5], [6]. В то же время некоторые этнотерриториальные группы карелов изучены слабо, в их числе так называемые новгородские карелы [1: 238].
***
В число организаций, способствовавших развертыванию советского модернизационного проекта в Новгородском регионе, входило Ленинградское отделение Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского (ЛО КУНМЗ). Как и прочие коммунистические университеты, вуз готовил кадры для партийной и советской работы. Специфику его деятельности составляла ориентация на представителей финской и эстонской национальностей. Частью образовательного процесса была партийно-производственная практика, которую студенты проходили в деревне, выступая помощниками райкомов и сельсоветов в деле социалистических преобразований. Молодые коммунисты использовались преимущественно для обслуживания «нацменовских» поселений.
Итоги своей работы они отражали в отчетах и дневниках, которые вели для предварительного закрепления полученных впечатлений. Отчетных документов, сообщающих о пребывании ленинградцев среди карелов Новогородчины, сохранилось мало, информация о будничной жизни населения представлена в них весьма скупо. В этой связи примечателен дневник студента Фомы Семеновича Хайконена, который проходил практику летом 1928 года в деревнях Полновско-го и Лычковского районов Новгородского округа Ленинградской области. Документ отложился в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в составе фонда Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского.
Записи сделаны от руки в ученической тетради. Почти отсутствует указание дат, что можно объяснить созданием текста постфактум, когда исследовательская работа была завершена и нужно было подготовить материалы для последующего составления отчета. На это указывает и заметное различие в объеме записей, в одних случаях занимающих несколько строк, а в других – несколько абзацев. Анализ композиции документа наводит на мысль, что автор не столько писал дневник, сколько пытался обобщить впечатления и сформулировать соответствующие выводы.
Хайконен с однокурсником был послан университетом в Новгородский окружной комитет ВКП(б), откуда их отправили обслуживать населенные пункты, сосредоточенные вокруг озера Вельё.
Исторически в пределах Новгородской губернии (в 1927 году включена в состав Ленинградской области) сложились четыре относительно обособленные этнографические группы карелов: тихвинские, крестецкие, боровичские, валдайские. Именно последние, компактно проживавшие в указанной выше местности, стали объектом наблюдения практиканта.
Статистический справочник по Новгородскому округу 1930 года в числе «главнейших народностей» Полновского и Лычковского районов не выделял карелов как особую категорию, отнеся их в разряд «прочих», насчитывавший 462 и 29 человек соответственно1. Однако, несмотря на сравнительную малочисленность относительно всех карелов Новгородчины, данная категория населения привлекала внимание советских руководителей, стремившихся обеспечить принцип национального самоопределения в рамках осуществляемой культурной революции. Одним из ключевых направлений новой национальной политики явилась коренизация [4: 23] и как частное ее проявление – карелизация / финизация [7], активно проводимая на севере и северо-западе РСФСР.
По замечанию А. А. Бландова, в ХХ веке субэтническая группа валдайских карелов «осталась практически неизученной» в этнографическом отношении [2: 79] (в отличие, например, от тихвинской группы [8], [9]).
В этой связи обсуждаемый дневник интересен как исторический источник, включение которого в научный оборот позволяет расширить представления о жизни новгородских карелов 1920-х годов. Записи отличает подробность в отображении ряда бытовых и мировоззренческих особенностей, характеризующих повседневность указанных деревень. С языковой точки зрения документ раскрывает своеобразие мировосприятия и образа мысли молодых партработников раннего советского периода.
Автор вел наблюдения не произвольно, а направляя свое внимание сообразно установкам, полученным в университете и райкоме партии. Это сказалось на структуре и содержании дневника. В первую очередь практиканта интересовало отношение обывателей к советской власти, ее учреждениям и мероприятиям. Помимо личных наблюдений, студент получал разнообразную информацию от местных жителей, рассказывавших о настоящем и прошлом данной местности.
Особо занимала автора тема национальной эмансипации карельского меньшинства, в частности языковой вопрос. По наблюдениям исследователей, валдайские карелы в первой трети
ХХ века заметно обрусели, в большинстве перейдя к использованию русского языка2. Судя по записям Хайконена, ему довелось общаться с карелами, не до конца ассимилированными и в какой-то мере принимавшими еще карельскую идентичность. Весьма вероятно, что практикант преувеличивал стремление крестьян «считать себя нацменами» – статистических данных на сей счет в дневнике не содержится. Однако заключить о существовании самой тенденции такие свидетельства позволяют.
ВЫВОДЫ
Анализ публикуемого дневника позволяет составить представление о некоторых сторонах жизни валдайских карелов накануне «великого перелома», в корне поменявшего подход большевистского руководства к осуществлению социалистической перестройки села. Студенческие материалы свидетельствуют об успехах и проблемах советизации новгородской глубинки. Они показывают карельскую деревню в переходном состоянии, которому свойственны признаки поступательной ассимиляции с русским населением и в то же время – сохранение крестьянами карельской идентичности и навыков речевого общения на местном диалекте карельского языка. Невзирая на лаконичность, приведенные записи, безусловно, являются ценным источником для изучения новгородских карелов, а именно представителей валдайской субэтнической группы, сосредоточенных в первой половине ХХ века вокруг озера Вельё.
Документ рисует картину традиционного общества, слабо затронутого культурной революцией. Воспоминания крестьян, собранные и обобщенные практикантом, отразили историческую память населения, восприятие им двух эпох – дореволюционной и советской на раннем ее этапе. При общем благожелательном расположении к советской власти, жители региона остались невосприимчивы к ряду нововведений, что во многом было обусловлено слабой материальной базой развертывания социально-культурных преобразований. Реалии новой жизни проникали в картину мира сельских обывателей, но подчас в искаженном виде, на что указывает, к примеру, своеобразная трактовка крестьянами целей колхозного строительства.
В некоторой степени дневник раскрывает и облик своего создателя – студента партийного вуза конца 1920-х годов. Записи отразили дискурсивные практики, характеризующие образ мысли молодых коммунистов, чье миропонимание складывалось под определяющим воздействием постулатов идеологического воспитания.
При подготовке настоящей публикации сохранена стилистика и некоторые грамматические оплошности оригинала, не влияющие на понимание написанного, с целью передачи духа документа, созданного человеком определенного уровня культуры и образованности. Сокращения, где это необходимо, раскрыты в квадратных скобках.
ТЕКСТ
«Дневник Хайконен Ф. С., составленный во время практической работы по исследованию карельских деревень в Новгородском округе летом 1928 г.
6/VI
В Новгородском окружкоме нам были указаны Новгородские деревни, расположенные в Новгор[одском] округе, а также дан маршрут следования и соответствующие наставления. Указания давали: уполн[омоченный] Новг[ородского] Окружисполкома по работе среди нацмена т. Кродер и зав. нацмен п[олит]о[тдела] окружкома.
8/VI
Прибыли в дер. Исаково3 Полновского района, где наняли кварт[иру]. Карельские деревни расположены от районного центра – Полноваза 20–30 килом. Район работы: д[еревни] Исаково, Пестово, Залужье, Балу-ево, Климово, Дупленец и Вельё Полновского р[айо]на, Лобаново – Лычковского района.
…/VI4
Крес[тьяне] предполагают, что колонизация карелов произошла во время Новгородского княжества, когда была оживленная торговля Новгорода с жителями берегов Ладожского озера, связывающая Новгородцев с жителями-карелами берегов Ладожского озера рекой Волхов.
…/VI
Крестьяне говорят, что 30 лет тому назад карельские деревни жили своей собственной жизнью: ни один карел, как молодой, так и старый, не умел говорить по-русски; в случае если попал в деревню русский, то приходилось разъясняться знаками. В настоящее время каждый, за исключением стариков и старух 70–80 лет, умеет по-русски. Молодежь говорит большей части времени по-русски, но, несмотря на это, каждый молодой парень и девочка знают карельский язык, хотя даже и мать русская. Замечается интересное явление: когда соберется группа домохозяйств соседи, хотя бы даже покурить, то после пары-трех слов, сказанных по-русски, разговор переводится на свой, карельский, язык, что подтверждает желание карельского населения сохранить за собой свой карельск. родной язык.
…/VI
Благодаря развитию промышленного капитала, начиная в конце XIX в., что вызвал поток людей в города, а также в силу политики царской власти о русификации нацменьшинств, начинается перелом и в карельских деревнях: карелы женятся на русских, население идет на заработки в города, и особенно заметный толчок к русификации карелов-молодежи дала мировая война.
В настоящее время у населения-карелов имеется глубокое желание возвратить себе отнятый язык5, в силу чего имеются просьбы о присылке учителей, владеющих русским и финским языком.
Школы в карельских деревнях в большинстве случаев существуют только 2–3 года. Учителей-карел не имеется, за исключением одной учительницы (Климовская шк[ола]), которая в смысле педагогической подготовленности еще слабоватая. В школах имеются 2 учебника по 25 экз. на школу на финском языке «Lastenystävä»6 и «Nuori Rakentaja»7, которые не могут быть использованы за незнанием педагогами финского языка.
Особенную заботу о нацменьшинствах-карелах проявляют в округе, но в районном центре этого не чувствуется. Что подтверждается и в том факте, что население карельских деревень имеет желание объединиться в один сельсовет, но район предусматривает слияние карельских деревень с русскими.
Особ[енно] гнет нацменьшинств чувствовалось 1905–1909 – мужиков пороли за малейшее ослушание. В случае поимки крестьянина с удочкой (деревни расположены поблизости озера б[ывшего] помещика), то пороли розгами до потери сознания. О этих жестокостях даже была просьба к царю, который сжалился и воспретил порку.
Школьные здания, заарендованные, не приспособлены к школьной работе, ощущается недостаток в партах и в учебных пособиях. Имеется много детей, не охваченных школой. Двум деревням обещаны под школы здания 2 дома б[ывших] помещиков, которые необходимо перевезти и поставить. Вопрос об этих домах пока окончательно не решен – дело тормозится РИКом8.
…/VI
На открытом общем парт. собрании ячейки замечалось, что расслоение обнаруживается и на собраниях, также это выявлялось и на общих собраниях граждан: беднота, маломощные с частью середняков смело, упорно выступая против зажиточных и примазавшихся к ним середняков. Чувствуется, что на собраниях господствующее положение занимает мнение в пользу проводимых мероприятий сов. властью в деревне. Беднота с удовольствием слушая доклад о колхозах, о займе укрепл[ения] с[ельского] х[озяйства], а также активно выступает с поддержкой тех, мнения которых направлены к поддержке и осуществлению мероприятий сов. власти. Зажиточная часть деревни также выступает за, но к тому же прибавляет мнение, что это неосуществимо; например, о колхозах зажиточный высказывается, что «это хорошо, но тут ничего не выйдет, если мы не организуем сразу же фабрики-деревни, т. е. мы должны стать с[ельско]х[озяйственными] рабочими, и чтобы нам только платили зарплату»9. Этот тонкий подход, конечно, бьет на то, чтобы выбить с голов маломощных крестьян охоту к осуществлению в деревне первичных форм коллективного труда – колхозов путем отпугивания, что в случае, если они войдут в колхоз, то превратятся в наемных батраков и тем лишатся своих хозяйств10.
Вера среди карелов укоренилась глубоко, начиная от дитя и до старых людей – на всех чувствуется отпечаток особой религиозности. Для примера можно указать, что у крестьянина-середняка, где расквартировали, вся задняя стена и «божеств[енный]» уголок развешены 53-мя картин святых угодников, в том числе 23 иконы и иконочек в стеклах. Во второй избе 3 больших иконы. По воскресеньям и праздничным дням население, не исключая и молодежи, почти поголовно валится в церковь. В каждой деревне имеется часовня.
Сильная религиозность карелов может быть объяснена тем, что все время до Октябрьск[ой] революции нацменьшинства были более притесняемы: насильно проводилась русификация, отделяли карелов от обществ[енной] жизни, культурных работников-учителей из их среды не воспитывали, школ не открывали. Необходимо [зачеркнуто: отметить, что] существовали в некоторых местах церковно-приходские школы, где получали грамотность сынки деревенских кулаков – « почетных мужиков», кои, конечно, с [то…]11 предусмотрительностью Самодержавия предназначались «воротилами» [зачеркнуто: в деревне] и в действительности имели в руках узды управления в деревне.
Теперь население с воодушевлением слушает [зачеркнуто: рассказ] объяснения о национальной политике Сов. власти, высказывая недовольство РИК’ом, который воспрепятствует в выдаче б[ывших] помещичьих домов под школы. С удовлетворением карельское население отзывается о уполномоченном Окружисполкома по делам нацменьшинств тов. Кродер, заботами которого с великим трудом удалось закрепить 2 деревням под школы два помещичьих дома. Пожилые кр[естья]не в 35–40 лет также говорят, что в случае, если удастся поставить учебу в школе на двух языках, и русском, и финском яз., то они также будут обучаться финскому языку.
В районе, где мы находились, имеется ячейка ВКП(б) – часть членов ячейки очень развитые, которые способны руководить и проводить политику партии и Сов. власти, но у них нет стремления, и не считают нужным проводить работу среди карелов как среди нацменьшинств, т. е. боятся, что в случае, если развернется работа под углом нацменьшинств, то карельские деревни будут иметь больше привилегий, чем русские, в виду чего воспрепятствуют желанию населения карельских деревень объединиться в один районный сельсовет.
Из бесед с населением-карелами выясняется, что они хотят считать себя нацменами, они желают и будут добиваться осуществления преподавания детям в школах финского языка. Против этих стремлений настроено русское население, видя в этих настроениях якобы какую-то корыстную цель и охоту в привилегиях. Это мнение также высказал член местной ячейки партии – завхоз гос. рыбоводным заводом12. Диалект [зачеркнуто: язык] здешних карел похож на язык олонецких карел (определение Потапова13).
[подпись: Хайконен]
10/VII 28».
РГАСПИ. Ф. 529. Оп. 24. Д. 181. Л. 141–147 об.
Список литературы Повседневность карелов Новгородчины в наблюдениях студента-коммуниста (по материалам дневника деревенской практики 1928 года)
- Бландов А. А. Малоизвестные группы карел за пределами Карелии: история ассимиляции и современное состояние // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2020. № 5. С. 238-245. DOI: 10.15393/j103.art.2020.1621 EDN: LJGBVY
- Бландов А. А. "Нас все корелякам звали, а мы карельского языка не знаем": субэтническая группа валдайских карел в ХХ и начале XXI в. // Финно-угорский мир. 2014. № 4. С. 78-83. EDN: TKBEEL
- Киркинен Х., Невалайнен П., Сихво Х. История карельского народа. Петрозаводск: Барс, 1998. 321 с.
- Мартин Т. Империя "положительной деятельности". Нации и национализм в СССР, 1923-1939. М.: РОССПЭН, 2011. 855 с. EDN: QPSAAZ
- Народ, разделенный границей: карелы в истории России и Финляндии в 1809-2009 гг.: эволюция национального самосознания, религии и языка: Сб. науч. ст. Петрозаводск: ПетрГУ; Joensuu: Itä-Suomenyliopisto, 2011. 250 с.
- Народы Карелии: Историко-этнографические очерки / Отв. ред. И. Ю. Винокурова. Петрозаводск: Периодика, 2019. 752 с.
- Попов А. А., Куаппала П. Новая советская национально-языковая политика в Карелии и Коми в условиях НЭПа: карелизация/финизация и зырянизация // Социокультурная динамика российской северной провинции: история и современность (на материалах Республики Коми): Сб. статей. Сыктывкар, 2016. С. 113-122. EDN: YPQSKB
- Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л.: Наука, 1977. 287 с.
- Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М.: Индрик, 2003. 407 с.
- Хирш Ф. Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 472 с.