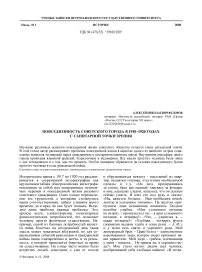Повседневность советского города в 1918 1920 годах с санитарной точки зрения
Автор: Федоров Алексей Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
Изучение различных аспектов повседневной жизни советского общества остается очень актуальной темой. В этой статье автор рассматривает проблемы повседневной жизни в качестве одного из наиболее острых социальных вопросов, возникших перед гражданином в послереволюционном городе. Внутренняя атмосфера такого города пронизана взаимной враждой, безразличием и недоверием. Все мысли простого человека были лишь о дне сегодняшнем и о том, как его прожить. Особое внимание обращается на условия повседневного бытия простого человека в годы гражданской войны.
История повседневности, материальные условия жизни, антропология города
Короткий адрес: https://sciup.org/14749389
IDR: 14749389 | УДК: 94
Текст научной статьи Повседневность советского города в 1918 1920 годах с санитарной точки зрения
Историческое время с 1917 по 1920 год рассматривается в современной историографии как крупномасштабная общероссийская катастрофа, повлекшая за собой ряд непрерывных негативных перемен в повседневной жизни рядового советского гражданина. Одно только перечисление тех трудностей, с которыми столкнулись наши соотечественники, займет слишком много времени, да и вряд ли оно будет полным. Выделим лишь наиболее важные проблемы. Это, прежде всего, удовлетворение элементарных физиологических потребностей, что позволяет человеку просто физически существовать. Например, одной из базовых потребностей является пища. Конечно, на сегодняшний день такая мысль может показаться абсурдной, но для современников событий революции и гражданской войны пища одновременно и мечта, и та реальность, в которой приходится бороться за право на существование. На улице часто можно было встретить людей, сошедших с ума от голода и обрушившихся невзгод – выселений из квартир, нехватки топлива, отсутствия необходимой одежды и т. д. «Он шел, придерживаясь за стены, брел как пьяный, хватаясь за фонари, и мне, идущему следом, казалось, что он должен сейчас упасть. Я взял его под руку и сказал: «Вы, кажется, больны… Вам необходим покой, доктор и усиленное питание». На желтом, припухшем лице незнакомца появилось бледное подобие улыбки. «Мне усиленное питание не нужно, – прошелестел он, – я враг усиленного питания, я четверка!» «Что, – удивился я, – какая четверка?» «Хлебная… четверть фунта (норматив выдачи хлеба в одни руки. – А. Ф.), и у меня есть связи: я хорошего рода. Мой двоюродный брат – Царь-Голод – единственное коронованное лицо, которое скоро признают ваши правители. Мой дядя – грабеж, племянница у меня – нищета… Не правда ли, я хорошего рода?» Мне стало жутко: рядом шел человек, вообразивший себя хлебным пайком! «Я четве-
рочка, – продолжал он, – я маленький кусочек сырого, невыпеченного, черного хлебца. Как только я вхожу в дом, там раздаются радостные крики. Меня с жадностью хватают. Ко мне тянутся мужские и женские, старые и молодые руки… О, как сверкает голод в глазах! Как дрожат пальцы! Какой спор, какие крики поднимают из-за меня! Я счастлив! Меня берут, меня распределяют на целый день, меня крошечную, разом исчезающую в их огромных ртах! А мой двоюродный брат – Голод, стоит в углу и смеется. Ах, как он умеет хохотать! Дьявол свой дьявольский смех копирует с него, но ему далеко до оригинала!» [1].
В условиях истощения человеческого организма, повсеместной нехватки медикаментов, медицинского оборудования, любое, даже самое незначительное заболевание могло таить в себе смертельную опасность. Угроза нашествия эпидемий напрямую зависела от количества людей, проживающих в том или ином населенном пункте, состояния коммуникаций (водопроводных и канализационных труб), уборки улиц и т. п. Очевидно, что такая угроза актуальна в первую очередь для крупного города с большим количеством жителей. В Советской России в 1917–1920 годах такому статусу отвечали Москва, Петроград, некоторые губернские центры Европейской части России. Для проживавших в них людей поддержание чистоты в жилых помещениях и на городских улицах стало вопросом жизни и смерти. На материалах Москвы, вернувшей себе с марта 1918 года звание первой столицы, вполне возможно представить с санитарной точки зрения послереволюционный российский город как место повседневной жизни людей.
Московский врач Вельмен, делая доклад на одном из ответственных заседаний в марте 1920 года, всего лишь обобщил известную информацию о санитарном состоянии столицы: «Москва загрязняется с 1915 г., и, в конце концов, совершенно загрязнилась» [2]. Не стоит полагать, что это произошло совершенно неожиданно: предупреждения врачей, инженеров городских коммуникаций, коммунальных работников появились гораздо раньше. Например, в июне 1917 года врач Екатерина Абрамсон в письме к городским властям замечала: «Город представляет собой помойную яму – это уже общественное бедствие, а Вами еще ничего не предпринято. Вчера лопнул засорившийся водопровод, завтра может испортиться канализация. Надо действовать, пока не поздно» [3].
Уже к весне 1918 года типичный московский дом представлял собой печальное зрелище. За время мировой войны во многих зданиях как внутренний, так и внешний ремонт не производился. Отсюда – проблемы с центральным отоплением, неисправная канализация, проржавевшая крыша, во многих местах которой были дыры, развалившиеся кухонные печи и плиты, сгнившие рамы и двери, обвал штукатурки.
Кроме того, сырость, холод, черная вода из-под крана, накопившиеся во дворах мусор, груды нечистот… Видимых следствий запустения городского хозяйства слишком много. Вроде бы все обо всем знали, были предупреждены о возможных последствиях разрухи и загрязнения, однако большого количества эффективных мер к тому, чтобы предотвратить возможный риск нашествия заболеваний, не было предпринято. В основе этого лежали как объективные, так и субъективные причины, которые определялись общим социальным контекстом переломной эпохи.
Дворник в 1917–1920 годах запросто может объявить забастовку, требуя от властей увеличения жалования, сокращения рабочего дня, социальной помощи. Не определяя справедливость таких требований, стоит отметить, что коммунальные службы не только сами не убирают улицы, не вывозят мусор и т. п., но и оказывают противодействие, вплоть до применения физической силы, тем гражданам, которые, например, вышли летом 1917 года подмести улицу перед своим домом. Депутат Московского Совета Рабочих Депутатов А. Ю. Лидин в это же историческое время замечал на улицах города не только пыль и мелкий сор, но и трупы павших животных [4]. В условиях продовольственного кризиса последнее было особенно опасно – трупное мясо оказывается не на свалках, а на столах москвичей. Один из современников с горечью признавал, что «русский человек, выросший среди вопиющих антисанитарных безобразий, давно к ним привык и ничему в этом отношении не научился» [5]. Часто из выгребных ям нечистоты выливаются прямо на двор, распространяя повсюду зловоние и заразу.
Среди причин прогрессирующего развития антисанитарии – общегородская нивелирующая атмосфера, принесенная октябрем 1917 года. В ней царит постоянный «передел» различного имущества между государством, городом и отдельным человеком. В первую очередь речь идет о городских квартирах: уплотнениях, выселениях, переселениях жильцов, которые привели к тому, что «Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Степана, а время идет, и мы продолжаем жить среди грязи, заразы и смрада» [6]. Безразличие к окружающей обстановке усиливается с каждым прожитым днем. Постепенно человек впадает в такое апатичное состояние, в котором уже не имеют решающего значения возможные последствия ужасов сегодняшнего дня.
По подсчетам специалистов, в 1918 году каждый москвич производил 19 пудов твердого мусора (около 300 кг) и порядка 40 литров нечистот в год. Так как численность населения Москвы не опускалась в 1918–1919 годах ниже отметки в 1 200 тыс. чел., получается, что только за 2 года на улицах города скопилось около 400 тыс. тонн отходов [7]. Из этого числа, по самым оптимистичным оценкам, за пределы городской черты своевременно было вывезено не более 1–3 % мусора. При объективных трудно стях в работе коммунальных служб – явной нехватке перевозочных средств и «черновых» работников, полнейшая бесхозяйственность обывателя – в числе первых причин разгула эпидемий в 1918–1920 годах, главными из которых становились кишечные инфекции (дизентерия, холера) и тиф.
Прямые обращения врачей к населению о соблюдении чистоты и элементарной гигиены были бесполезны. «Мыть руки перед едой» – из-за дефицита мыла, «не употреблять в пищу подозрительных и не свежих продуктов» – до 90 % составляющих продуктовой корзины представляли собой суррогаты сомнительного качества, «обращаться к врачу при первых признаках болезни» – на 1 участкового врача в среднем приходилось от 2-х тысяч пациентов и нельзя было рассчитывать на оперативную помощь, кроме того, вырос риск получить иное заболевание от других людей, пришедших на прием и т. п. На это накладывается жизнь за порогом нищеты порядка 25 % москвичей (около 400 т. ч.), которые расходуют наличные средства лишь на приобретение продуктов, совершенно позабыв о личной гигиене. Жилища, одежда городской бедноты становятся благоприятной средой для популяций насекомых, переносящих заболевание от человека к человеку. Избежать встречи с больным невозможно, и потенциально каждый горожанин в условиях ежедневно нараставшей нищеты может рассматриваться как настоящий или будущий носитель инфекции.
Среди мер административного характера, направленных на превентивную борьбу с заболеваниями, стоит отметить Обязательные Постановления Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов от 18 июля и 7 августа 1918 года «О содержании бань». Владельцам этих заведений предписывалось открывать бани для посетителей не менее 3 раз в неделю, воздерживаться от повышения платы за услуги, а главное, обеспечить бесплатный вход наиболее нуждающемуся населению [8]. Банщики восприняли эти социальные инициативы властей как обязанность, которую если и стоит выполнять, то таким образом, чтобы не потерять своей выгоды. Медико-Санитарный Совет г. Москвы признавал, что в «простонародных» отделениях, посещаемых бесплатно, «страшная грязь, горячая вода почти не течет», тогда как в «дворянских», посещаемых за плату, «вода течет хорошо и чистота» [9]. Заведующий одного из московских детских приютов, воспитанники которого имели право на бесплатный вход, отмечал, что «не представляется возможным поддерживать чистоту тела детей хождением в торговые бани, так как оттуда скорее, чем откуда-либо, можно занести сыпной тиф. К этому же следует добавить, что бани бывают открыты 1 раз в 2–3 недели, плохо отапливают- ся, и вода в них не бывает достаточно горячей. Следовательно, помимо тифа легко в таких банях про студить детей» [10].
Попытки московских властей искоренить подобные явления закончились неудачей. Планировавшаяся в декабре 1918 года муниципализация частных бань, направленная на то, чтобы перевести данные заведения в собственность города и таким образом контролировать их работу, была практически сразу отменена. Это произошло потому, что из 51 столичной бани, функционировавшей в конце 1918 года, 22 закрылись при первых слухах о возможной муниципализации [11]. Нечто подобное случилось и с другим элементом социальной инфраструктуры города – парикмахерскими. Услуги данных заведений воспринимались современниками как средство кардинальной борьбы с распространением насекомых – переносчиков болезни, поэтому их нормальное функционирование имело большое значение для города. Муниципальные парикмахерские не выдерживали конкуренции со стороны частных заведений, «умирали медленной смертью». Несмотря на то, что в советских парикмахерских брали в 1919 году 5 руб. за стрижку, в то время как в частных в 20–40 раз больше, муниципальные заведения обладали такой низкой пропускной способностью, что «надо ждать 2–3–4 часа и уйти, не остригшись» [12].
Важным условием, благоприятствующим распространению заразы, стала высокая скученность населения в отдельных жилищах – именно в них чаще всего происходило заражение от человека к человеку. В Москве к 1918 году, по сравнению с 1914 годом, уменьшилась городская жилая площадь с 41 250 000 м² до 26 813 000 м² [13] при сохранении примерно одинакового количества жителей. Это, в свою очередь, потребовало срочного решения обострившегося жилищного вопроса. Власть в данном случае пошла по пути «уплотнения» граждан (1918 г.), концентрируя все большее количество людей в одном месте, при этом экономя топливо и реализуя принципы совместной коммунальной жизни. Температура в московских зимних квартирах, из-за «дровяного голода», в 1918–1920 годах не поднималась выше 13º, а чаще колебалась на уровне 8–9º. В журналистском расследовании редакции газеты «Рабочий Интернационал» (март 1919 г.) отмечались некоторые итоги прошедшей зимы: «Более 2/3 всех московских домов, свыше 2 тыс. зданий с центральным отоплением, заморожены. Иными словами, наилучше оборудованные дома, в которых жило до 400-500 тыс. жителей, оказались негодными для жилья. В течение лета ремонт всех этих зданий едва ли будет возможен, лопнувшие от мороза водопровод и канализация грозят весной затопить Москву. Следующая зима будет неизмеримо ужаснее, вследствие полного отсутствия заготовок дров. Заготовительная кампания пропущена, до сих пор мы жили запасами 1916– 1917 гг.» [14]. Холодные дома добавили в повседневную жизнь простого человека ряд легочных заболеваний, самыми опасными из которых становились «испанка», острый бронхит и воспаление легких. По вопросу практической реализации принципов коммунальной жизни Инструкция Московского Совдепа о максимальном уплотнении квартир в связи с кризисом топлива (декабрь 1918 г.) предусматривала, что «переселяющиеся берут с собой минимум вещей» [15]. На практике это означает отсутствие сменного белья, отдельной постели и т. п. элементарных средств личной гигиены. Активное распространение, вследствие этого, получают не только тиф, но и «народные болезни» – сифилис и туберкулез, а в органы власти всех уровней потечет поток жалоб граждан с просьбой об удалении нежелательных соседей. По данным Особого Строительно-Санитарного Комитета г. Москвы (Оском), к весне 1920 года из 3462 владений с центральным отоплением уцелело лишь 1092. В то же время, за зиму 1919/1920 гг. москвичами было разобрано на дрова более 2,5 тыс. деревянных домов, около 850 зданий не годились даже на дрова и были позже сожжены по личному распоряжению В. Д. Бонч-Бруевича, дабы избежать дальнейшего распространения заразы [16].
По подсчетам А. А. Ильюхова, всего за 1918– 1920 годы в Москве умерло порядка 150 тыс. чел. [17], не менее ⅓ этих смертей имели своей причиной какое-либо заболевание. Эта цифра значительна и равняется населению крупного губернского города того времени, такого, например, как Калуга, Тверь или Ярославль. Большое количество тел, ожидавших в больницах медицинского вскрытия, также таило угрозу для живых. Поэтому тела умерших от заразы, как правило, не выдавались родным и с целью экономии государственных средств хоронились в общих могилах. Но самый безопасный способ утилизации был найден в кремации: с ноября 1919 года в столице идет активное строительство камер для сжигания трупов.
Простой человек, живущий потребностями сегодняшнего дня, чувствуя свою неспособность решить проблему риска получить заболевание, начинает апеллировать к властям. Характерное «письмо во власть» из 1919 года: «Товарищи Врачебно-Санитарного Отдела! Прошу обратить внимание на нашу просьбу. Будьте добры отрядить комиссию и осмотреть, какая грязь и зараза находятся во дворе дома № 3 по Мытной улице, около Калужской площади. Весь двор представляет из себя одну сплошную грязную яму, по всему двору кишат черви и даже на улицу вытекает червовый ручей. Сюда же выбрасываются различные нечистоты, и ввиду скверного воздуха нельзя открывать окна, которые выходят во двор. Ведь от такой заразы могут разводиться различные эпидемические болезни (курсив мой. – А.Ф.). Наде- емся, что Вы не откажете в нашей просьбе и осмотрите наш дом. За это принесем Вам искреннюю и глубокую благодарность… очень и очень просим не оставить нашей просьбы» [18].
Перед лицом ужасной смерти все горожане оказались равны, независимо от своей классовой принадлежности и идейных убеждений. Под вопросом стоит само будущее советского государства, так как непонятно: кому же в условиях демографического кризиса придется строить новое, справедливое общество? Российского обывателя мало беспокоил подобный вопрос, совершенно иное отношение он встречает у большевистских лидеров. Зима 1919/1920 гг. собрала в Москве очередной «богатый» урожай из 30 тыс. заболевших, каждый третий из которых, по статистике, должен был умереть. От властей потребовались решительные, даже порой жесткие меры, дабы остановить массовые заболевания. В феврале 1920 года создается Московская Чрезвычайная Санитарная Комиссия (соответствующие Постановления СНК РСФСР и Исполкома Московского Совдепа от 9 и 20 февраля), которая получит широкие полномочия, вплоть до привлечения к суду Ревтрибунала лиц, не исполняющих ее решения [19].
Главной задачей Чрезвычайной Комиссии (МЧСК) становилась очистка Москвы от накопившегося мусора и нечистот, а также общее улучшение санитарного состояния столицы. Предполагалось сразу действовать по нескольким направлениям: во-первых, «внедрение в сознание населения предстоящей опасности от загрязнения, необходимости каждому взяться за работу по очистке, чтобы спасти себя и других» [20] (агитационно-пропагандистский подход). В этом случае использовались как традиционные средства наглядной агитации (публичные лекции, брошюры, плакаты и т. п.), так и нетрадиционные, например кинотеатры, в которых демонстрировались фильмы медицинского содержания. При необходимости быстро решать проблему полнейшей антисанитарии до статочно трудно объективно оценить степень действенности такого подхода. Во всяком случае, ясно, что его результаты проявят себя еще не скоро, поэтому гораздо больший исследовательский интерес вызывает репрессивно-принудительная стратегия, предложенная МЧСК.
Первостепенной задачей становилась очистка жилых помещений и мест общего пользования (дворов, лестниц, чердаков, подвалов и т. п.). Эта обязанность возлагалась на самих жильцов, за ее исполнением следил 4-х уровневый контроль: соседи, председатель домового комитета, управляющий квартальным хозяйством и государственный контролер. Вся система держалась на принципах «круговой поруки». Власти же, в лице Правительства РСФСР и лично В. И. Ленина, гарантировали материальнотехническую поддержку проводившимся меро- приятиям, самым масштабным из которых стала «Неделя очистки» (1–15 марта 1920 года). По первоначальной смете на ее проведение планировалось израсходовать 200 млн. руб., затем сумма расходов выросла в 3,5 раза и составила 700 млн. руб. Из финансовых расчетов стоимости вывоза одной подводы с мусором в марте 1920 года вытекает, что всего за это время за пределы городской черты было вывезено около 65 тыс. тонн мусора [21], т. е. не более 1/6 части накопившихся за 2 года отходов. Остальная часть или сжигалась в кухонных печах или на улицах, отравляя едким запахом воздух, или оставалась внутри города на специально отведенных или на стихийных свалках, или попросту закапывалась в землю или переносилась на территорию соседнего двора. В таком ракурсе несколько иначе воспринимаются «победные реляции» в Центр о проделанной работе: «Неделя чистоты» закончилась, население встряхнулось. Отныне всякий гражданин и каждое учреждение обязаны поддерживать чистоту и опрятность в занимаемом ими помещении. Нарушения сего впредь будет рассматриваться как проступок, подлежащий наказанию. Особо строго будут преследоваться разбрасывание нечистот и отбросов по двору и выплескивание их через окна и на порогах, а также использование для этого нежилых квартир и комнат» [22]. Не умаляя значения «Недели чистоты», считаем, что это была скорее паллиативная мера, решившая проблему загрязнения крупного города на очень короткое время. Более того, заметны несколько наивные ожидания, что прежняя антисанитария никогда уже не повторится.
Еще меньший практический результат имело проведение «Банной недели», «Недели стрижки и бритья», «Недели стирки» с 30 марта по 10 апреля 1920 года. Абсолютно каждый москвич получил «банный ордер» с правом однократного бесплатного посещения важнейших с санитарной точки зрения институтов социальной инфраструктуры: бани, парикмахерской и прачечной. В московских общественных банях даже при 14-часовом рабочем дне и максимальной пропускной способности «банным ордером» смогут воспользоваться не более 700 000 чел. [23], то есть ровно половина населения столицы в весенний период 1920 года. При этом можно предполагать ужасные очереди, ругань, давку и риск получить заболевание. Суррогаты мыла, выдававшиеся для стирки, также ставят вопрос о ее эффективности. О качестве и продолжительности работы частных парикмахерских можно только догадываться. Становится понятно, что не все население Москвы воспользовалось возможностями «банного ордера», а самое главное то, что это была разовая акция и на серьезный долговременный результат рассчитывать не приходилось. Тем не менее на все вышеуказанные мероприятия были израсходованы огромные суммы, порядка 1 млрд. руб., и при этом нельзя сказать, что это значительно улучшило санитарную обстанову столицы в ближайшей исторической перспективе.
Гораздо более взвешенной и продуманной представляется деятельность Особого Строительно-Санитарного Комитета г. Москвы, которым руководил управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич. Действуя автономно от Чрезвычайной Санитарной Комиссии, Строительный Комитет имел своей задачей санитарное обследование всех жилых помещений столицы, по результатам чего решалась их дальнейшая судьба: ремонт, слом на дрова или уничтожение. К октябрю 1920 года, когда были подведены некоторые итоги деятельности Оско-ма, оказалось, что за летний строительный сезон отремонтировано 3 653 столичных здания, в то время как в 53 губерниях Российской республики вместе взятых всего – 2 347, то есть на 30 % меньше [24]. Довольно успешно были также выполнены работы по восстановлению водопровода, системы центрального отопления. Несколько хуже дело обстояло с ремонтом крыш и канализации. Представляется, что если бы 1 млрд. руб., потраченный ранее на проведение краткосрочных акций, был бы вложен в ремонт зданий, то потенциально это могло бы принести большую пользу и простому человеку, и городу.
Таким образом, в послереволюционном российском городе проблема санитарного состояния жилых домов и улиц является одной из важнейших. Это подтверждается повышенным вниманием к здоровью населения как со стороны специалистов, так и со стороны властей. С другой стороны, обыватель равнодушен, проявляет совершенно явное безразличие к окружающей его обстановке. Во-первых, это объясняется общими негативными переменами в повседневной жизни, суровыми условиями существования. Во-вторых, несформированностью гражданского правосознания, когда человек не способен отвечать за результаты своих действий. Гражданское общество начинается со своего дома, своего двора, но именно там в 1918–1920 годах больше всего нарушений правил элементарной гигиены. Особенности социальной среды накладывают свой отпечаток на все инициативы властей по санитарному вопросу, в итоге сводя к минимуму результаты положительной деятельности. Окончание гражданской войны, переход к НЭПу привнесут в советское общество столь необходимую стабильность, осознание простым человеком ценности своей повседневной деятельности. Изменившиеся материальные условия жизни найдут прямое подтверждение в улучшении санитарного состояния советского города в 1920-е годы. О качественных же сдвигах в области гражданского правосознания, в частности по вопросу чистоты, судить достаточно сложно. Представляется, что эта проблема во многом до сих пор не решена. В отдельные нестабильные отрезки советской и российской истории санитарный вопрос сохранял свою актуальность как на городских улицах, так и в жилом секторе. В этой связи изучение условий жизни простого человека окажет содействие общему пониманию проблем российского общества на различных этапах его истории.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Фонарь. 1918. 16 февраля.
-
2. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 228. Л. 1.
-
3. Там же. Оп. 3. Д. 771. Л. 6.
-
4. Там же. Л. 3, 8.
-
5. ЦАГМ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 7. Л. 15.
-
6. Там же.
-
7. Там же. Л. 144.
-
8. Санитарный бюллетень Москвы. 1918. № 6. С. 1.
-
9. ЦАГМ. Ф. 1616. Оп. 3. Д. 50. Л. 4об.
-
10. ЦГАМО. Ф. 968. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
-
11. ЦАГМ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 6. Л. 25об.
-
12. Там же. Ф. 2434. Оп. 1. Д. 25. Л. 46.
-
13. Жилищное товарищество. 1922. № 6. С. 9.
-
14. Рабочий Интернационал. 1919. 11 марта.
-
15. ЦАГМ. Ф. 1514. Оп. 1. Д. 32. Л. 347.
-
16. ОПИ ГИМ. Ф. 454. Оп. 1–2. Д. 210. Л. 25.
-
17. См.: Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и гражданской войны. М., 2007. С. 170.
-
18. ЦАГМ. Ф. 2326. Оп. 1. Д. 18. Л. 109.
-
19. Там же. Ф. 2403. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
-
20. Там же. Д. 4. Л. 41.
-
21. Там же. Д. 16. Л. 29.
-
22. Там же. Д. 3. Л. 10.
-
23. Там же. Д. 4. Л. 112.
-
24. ОПИ ГИМ. Ф. 454. Оп. 1–2. Д. 210. Л. 28об.
Список литературы Повседневность советского города в 1918 1920 годах с санитарной точки зрения
- Фонарь. 1918. 16 февраля.
- ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 228. Л. 1.
- Там же. Оп. 3. Д. 771. Л. 6.
- Там же. Л. 3, 8.
- ЦАГМ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 7. Л. 15.
- Там же. Л. 144.
- Санитарный бюллетень Москвы. 1918. № 6. С. 1.
- ЦАГМ. Ф. 1616. Оп. 3. Д. 50. Л. 4об.
- ЦГАМО. Ф. 968. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
- ЦАГМ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 6. Л. 25об.
- Там же. Ф. 2434. Оп. 1. Д. 25. Л. 46.
- Жилищное товарищество. 1922. № 6. С. 9.
- Рабочий Интернационал. 1919. 11 марта.
- ЦАГМ. Ф. 1514. Оп. 1. Д. 32. Л. 347.
- ОПИ ГИМ. Ф. 454. Оп. 1-2. Д. 210. Л. 25.
- Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и гражданской войны. М., 2007. С. 170.
- ЦАГМ. Ф. 2326. Оп. 1. Д. 18. Л. 109.
- Там же. Ф. 2403. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
- Там же. Д. 4. Л. 41.
- Там же. Д. 16. Л. 29.
- Там же. Д. 3. Л. 10.
- Там же. Д. 4. Л. 112.
- ОПИ ГИМ. Ф. 454. Оп. 1-2. Д. 210. Л. 28об.