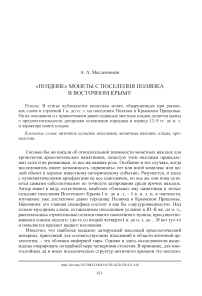"Поздние" монеты с поселения полянка в Восточном Крыму
Автор: Масленников А.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Нумизматика
Статья в выпуске: 256, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье публикуются несколько монет, обнаруженных при раскопках слоев и строений I в. до н. э. на поселении Полянка в Крымском Приазовье. На их основании и с привлечением ранее изданных местных кладов делается вывод о предпочтительности датировки оставления городища в период 13-9 гг. до н. э. и характере самих кладов.
Античное сельское поселение, монетные находки, клады, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/143169002
IDR: 143169002
Текст научной статьи "Поздние" монеты с поселения полянка в Восточном Крыму
Сколько бы ни писали об относительной значимости монетных находок для хронологии археологических памятников, зачастую этим находкам принадлежит если и не решающая, то все же важная роль. Особенно в тех случаях, когда исследователь имеет возможность «привязать» тот или иной комплекс или целый объект к хорошо известному историческому событию. Разумеется, и здесь с нумизматическими артефактами не все однозначно, но все же они пока остаются самыми «абсолютными» по точности датирования среди прочих находок. Автор имеет в виду, естественно, наиболее «близкие» ему памятники и эпохи: сельские поселения Восточного Крыма I в. до н. э. – I в. н. э. и, в частности, изучаемое уже достаточно давно городище Полянка в Крымском Приазовье. Напомним: его главная специфика состоит в как бы «двухуровненности». Над зольно-мусорным слоем, оставленным поселением условно в III–II вв. до н. э., располагались строительные остатки нового населенного пункта, просуществовавшего совсем недолго: где-то со второй четверти I в. до н. э. до… И вот тут-то и появляется предмет нашего изложения.
Известно, что наиболее надежно датируемый массовый археологический материал, пригодный для соответствующих изысканий в области античной археологии, – это обломки амфорной тары. Однако и здесь исследователи вынуждены оперировать по крайней мере четвертями столетия. В принципе, для многослойных да и иных поселенческих структур античного времени это неплохо.
Но хотелось бы более точного датирования события, в данном случае – времени прекращения жизни на этом поселении. И для этого есть исторические основания – письменные свидетельства ряда античных авторов. Нет, именно об этом заштатном сельском поселении где-то на Меотиде (для древних греков и римлян – почти на краю света) они, конечно, не писали. Но в общем контексте событий на Боспоре в последней четверти указанного века ( Сапрыкин , 2002. С. 55–125) его «локальная» история вполне могла бы занять свое скромное место.
Поселение Полянка, раскопки которого ведутся экспедицией ИА РАН с перерывом с 1984 г., получило известность прежде всего благодаря находкам двух «кладов» и примечательного культового комплекса – святилища. «Клады» (мы не случайно употребили здесь кавычки) неоднократно привлекали внимание специалистов-нумизматов, в том числе и в качестве хронологических реперов самого поселения (см. ниже). Однако совершенно очевидно, что лишь совокупность всего археологического материала позволит прийти к наиболее обоснованным соответствующим выводам и максимально адекватной исторической интерпретации. Рассмотрение его – материала – не является целью данной публикации. Наша задача много проще и ограниченнее: дать характеристику части монетных находок с рассматриваемого городища.
Напомним, что при площади около 0,55 га оно на сегодняшний день раскопано примерно на 80–85 %, что представляется весьма существенным в плане репрезентативности разного рода «выборок», статистики и выводов.
Итак, из 84 пока (раскопки еще продолжаются) найденных здесь, исключая, естественно, клады, монет 53 относятся к предшествовавшему периоду, то есть III–II или даже рубежу II–I вв. до н. э. Самая поздняя из них – медный дихалк начала I в. до н. э. (Оп. ВКАЭ № 190/2016 – Зограф , 1951. Табл. XLI. № 18; Анохин , 1986. Табл. 7. № 203). Все или почти все они, очевидно, так или иначе были связаны с упомянутыми зольно-мусорными напластованиями. То есть оказались на «помойке». Из прочих – одна (Оп. 552/1986) принадлежала чекану Рескупорида VI (326/327 гг. н. э.) см.: Голенко , 1960. Тип. 362), явно выпадая из общей «картины». Впрочем, немногочисленные находки и даже невыразительные остатки строений позднеантичного или, скорее, раннесредневекового времени (салтово-маяцкая культура?) тут были зафиксированы.
Остальные (кроме совершенно неопределимых) – I в. до н. э. и связаны уже непосредственно с исследуемым поселением. Из них удалось надежно атрибутировать 8 и предположительно – два экземпляра, то есть около 12 % всего этого локального нумизматического собрания. (Попутно автор хотел бы выразить благодарность за помощь в этих определениях М. Г. Абрамзону и безвременно ушедшему от нас В. Н. Розову.)
Статистика, таким образом, демонстрирует очевидную и даже «подчеркнутую» скудость соответствующих находок рассматриваемого памятника, весьма нехарактерную для прочих раскопанных поселенческих объектов боспорской хоры указанного периода. Например: на одной из башен близ Узунларского вала (раскопки автора в 2017 г.) было обнаружено 11 монет (70–40 гг. до н. э.) на площади всего около 175 кв. м! То есть насыщенность ими культурных напластований оказалась почти в 25 раз большей. Зато это вполне отвечает уже неодно- кратно приводимой нами общей характеристике находок с данного поселения (за исключением, естественно, «кладов» и святилища) – «ушли и пол подмели».
Вот эти монеты.
Медный («безымянный») обол (оп. ВКАЭ, № 443/1985), по-видимому, сохранился не вполне удовлетворительно, типа: Дионис (л. с.), горит (о. с.). По А. Н. Зографу, это боспорский чекан Митридата Евпатора 73–63 гг. до н. э. ( Зограф , 1951. Табл. XLIII. № 22, 23). Все последующие специалисты-нумизматы как будто бы склонны несколько омолаживать эту дату. Происходит из упомянутого святилища.
Три (оп. № 68/1984, 2/2010 и 109/2011) – представляют фактически один тип: медный обол (л. с. – голова Аполлона вправо; о. с. – орел почти enface на пучке молний. Слева монограмма, справа 12-лучевая звезда. Внизу, в одну строку ПАNTIKAПAITΩN). Согласно А. Н. Зографу, датируется 73–63 гг. до н. э. ( Зо-граф , 1951. Табл. XLIII. № 20), а по В. Н. Анохину – 70–63 гг. до н. э. ( Анохин , 1986. Табл. 9. № 214).
Вариант того же типа: обол (оп. № 196/2007). Л. с. – голова царя (?) в образе Аполлона вправо; о. с. – орел на пучке молний в трехчетвертном повороте влево, справа – 12-лучевая звезда. Слева монограмма. Внизу под молниями в две строки: ПАNTIKA – ПAITΩN ( Анохин , 1986. Табл. 9. № 214?).
Медь (оп. № 446/1985). Л. с. – эгида; о. с. (стерта, предположительно – Ника вправо). Амис. (SNG ВMI, № 1185) 85–65 гг. до н. э.
Медь (оп. № 192/2014). Л. с. – голова юного Геракла в львиной шкуре вправо; о. с. – палица со шкурой, надпись: АMIΣOY, вверху неясная монограмма. Амис, согласно датировкам М. Прайса (SNGBMI), 85–65 гг. до н. э.
Медь (оп. № 191/2016). Л. с. – голова Зевса (?) вправо; о. с. – орел на молниях, внизу надпись: ΣINΩPEΣ. Слева в поле монограмма, справа звезда (SNG. BMI, № 1543–1546), 85–65 гг. до н. э.
Медь (оп. № 134/2015). Л. с. – изображение стерто; о. с. – как будто бы венок по краю. Возможно, как полагал А. Н. Зограф, Боспор конца I в. до н. э. – начала I в. н. э. ( Зограф , 1951. Табл. XLV. № 2). Вероятная аналогия по Анохину ( Анохин , 1986. Табл. 11. № 277) – Динамия (9/8 г. до – 7/8 г. н. э.).
Наконец, медная монета из разведочного шурфа 1984 г. Л. с. – женская голова в калафе и покрывале вправо; о. с. – факел, по сторонам которого надпись: KAIΣAPEΩN ( Зограф , 1951. Табл. XLV. № 12; Анохин , 1986. Табл. 12. № 322) 14–8 гг. до н. э. или Аспург (?) 14/15 – 37/38 гг. до н. э.
Завершая наш краткий очерк, нельзя не упомянуть еще раз о полянкинских «кладах» и, как следствие, датировке поселения. Их первый исследователь – В. К. Голенко – определял время «тезаврации» около 47 г. до н. э. и связывал оставление городища с перипетиями борьбы Фарнака и Асандра ( Голенко, Масленников , 1987. С. 51, 52; Голенко , 2005. С. 389–391). Примерно того же мнения (44/43 гг. до н. э.) придерживался и С. А. Коваленко ( Коваленко , 2010. С. 208). Не вполне уверен был в этих датах С. И. Болдырев ( Болдырев , 2002. С. 56–58). Н. А. Фролова (в том числе и в соавторстве с М. Г. Абрамзоном) остановилась на дате «зарытия» кладов 21/20 гг. до н. э. ( Фролова , 1998. С. 58–60; Абрам-зон, Фролова , 2007–2008. Т. I. С. 261, 282–283). Автор данной публикации неоднократно писал о соответствующем времени как о первых годах правления
Полемона Понтийского (около 13 г. до н. э. или немного позже) ( Масленников , 1995. С. 158–167; 1998. С. 128–133; 2006. С. 75). Отметим, что значительная часть только что приведенных находок аналогична основному типу монет, представленному в «кладах» («Аполлон, орел на молниях»). Да и иногородние монеты того же времени, типа и центров в них присутствуют. Но главное: в нашем маленьком собрании совершенно нет (пока?) монет Асандра. Зато есть, правда с некоторыми оговорками, – конца I в. до н. э. Вкупе с прочими массовыми находками, и прежде всего амфорным материалом, относительно поздняя датировка (13–9 гг. до н. э.?) оставления поселения представляется более обоснованной. Но и «нижняя» дата для городища – начало второй четверти I в. до н. э. – «выглядит» на фоне всего нумизматического собрания вполне убедительно и не противоречит иным артефактам и археолого-стратиграфическим наблюдениям.
И наконец, про кавычки у слова «клад». Поселение Полянка – весьма и весьма необычный и даже где-то загадочный объект. Взять хотя бы обстоятельства его оставления жителями. Ни следов военных действий, ни пожаров, ни внезапной природной катастрофы… Собрались, забрали все мало-мальски ценное, заложили дверные проходы помещений и проезд в оборонительной стене камнями (а ведь на это нужно время!) и ушли… забыв и растеряв (в спешке?) кучу денег в одном из них («клады» 1984 и 1985 гг.). Именно оставив их, что называется, на виду: амфора с более чем тысячью монетами (жалованье маленького гарнизона за два месяца – см.: Коваленко , 2010. С. 209–212) стояла в углу помещения, а несколько десятков их (кошелек или кошельки?) были разбросаны на полу. Никто ничего специально не прятал, как это водится собственно с кладами, почему они так и называются. Вот уж воистину: суета страшнее воровства. Если, конечно, это было именно так.
На этом можно было бы и точку поставить, но все же не хочется. Ведь остаются сомнения… Во-первых, насколько объективна наша «выборка» или, лучше сказать, случайны (или, напротив, достойны внимания) ее самые поздние «составляющие»? Вопрос правомерен: «собрание», действительно, само по себе маленькое, а определения поздних монет не вполне уверенные (осмотреть «вторично» монету Кесарии нам пока не удалось).
Во-вторых, все-таки странно, что деньги в амфоре остались «невостребованными». Суета – суетой, но при всяких сборах «деньги – вперед». И потом, хронология обоих «кладов», предложенная Н. А. Фроловой, опирается на наличие тетрахалков Асандра (датировка которых, строго говоря, разделяется не всеми: см. Коваленко, 2010. С. 206–208) из «кошелька» в том же помещении, что и амфора с монетами (Абрамзон, Фролова, 2007–2008. С. 261). В ней же («клад» 1985 г.), напомним, таковых вообще не было, а все больше – тяжелые оболы. Факт долгого совместного хождения монет самого разного времени и чекана, и тем более на периферии античного мира, общепризнан и, наверно, был экономически оправдан. Но ведь время от времени в силу разных обстоятельств часть «старых» денег изымалась из обращения и шла на переплавку или перечеканку (на Боспоре это даже засвидетельствовано письменной традицией, правда, для времени поздних Спартокидов). Может быть, и второй полянкинский «клад» (в амфоре) являлся таким «сбором», предназначенным на отправку «куда следует», но оставленным «за ненадобностью»? Впрочем, последнее – все же сомнительно. Металл все-таки… а он денег стоил!
Вот так обстоит дело с поздними нумизматическими находками на поселении Полянка, что в Крымском Приазовье.
Список литературы "Поздние" монеты с поселения полянка в Восточном Крыму
- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 182 с.
- Абрамзон М. Г., Фролова Н. А., 2007-2008. Корпус боспорских кладов античных монет. Т. I // Bosporus studies. Supplementum 2. Симферополь; Керчь. 872 с.
- Болдырев С. И., 2002. Монетные комплексы Боспора рубежа нашей эры, как исторический источник // ДБ. Вып. 5. М. С. 54-63.
- Голенко К. В., 1960. Второй Патрейский клад монет (1951) // НЭ. Т. 1. С. 223-289.
- Голенко В. К., 2005. К "реабилитации" античного поселения Полянка // Боспорский феномен: проблемы соотношения письменных и археологических источников. Мат-лы Междунар. науч. конф. СПб. С. 382-386.
- Голенко В. К., Масленников А. А., 1987. Два клада монет с поселения "Полянка" // Новое в советской нумизматике и нумизматическом музееведении. Краткие тезисы докладов и сообщений научной конференции. Л., 1987. С. 51-52.
- Зограф А. Н., 1951. Античные монеты. М.; Л.: АН СССР. 264 с. (МИА; № 16.)
- Коваленко С. А., 2010. Клады монет с поселения "Полянка". Addendum // Gaudeamusigitur. Сб. ст. к 60-летию А. В. Подосинова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. С. 203-216.
- Масленников А. А., 1995. Полемон I на Боспоре // БС. № 6. С. 158-167.
- Масленников А. А., 1998. Эллинская хора на краю Ойкумены. М.: Индрик. 302 с.
- Масленников А. А., 2006. Античное святилище на Меотиде. М.; Тула. 152 с.
- Сапрыкин С. Ю., 2002. Боспорское царство на рубеже двух эр. М.: Наука. 272 с.
- Фролова Н. А., 1998. Клад боспорских монет I в. до н. э., найденный на античном поселении "Полянка" (1984-1985 гг.) // ПИФК. Вып. VI. C. 53-76.