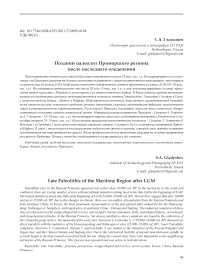Поздний палеолит Приморского региона после последнего оледенения
Автор: Гладышев С.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология каменного века палеоэкология
Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.
Бесплатный доступ
Палеолитические стоянки в российском Приморье появляются не ранее 18 тыс. кал. л.н. На территориях к югу и юго-западу от Приморья существует большое количество памятников с микропластинчатыти индустриями, относящихся ко времени еще до начала LGM. Наибольшее количество датированные стоянок приходится на начало LGM (24-20 тыс. кал. л.н.). Исследователи предполагают, что после 20 и до 15 тык. кал. л.н., в силу изменения природные условий, происходит отток населения с Корейского полуострова и из северо-восточного Китая. В Корее наиболее яркими представителями послеледниковых каменные индустрий являются комплексы стоянки Хопейонгдонг, Хавагайри, Сонгдури и Гигок, в северо-восточном Китае - Датонг и Юафанг. Индустриальною комплексы этих стоянок характеризуются клиновидными микронуклеусами, концевыми скребками, резцами, проколками, сверлами, листовидными бифасами, наконечниками стрел и ретушированными микропластинами. В российском Приморье ближайшие аналогии этим комплексам обнаруживаются в коллекциях стоянокустиновской группы. Материалы ранних памятников Приморья - Суворово 4, Устиновка 5, 7 (возраст - 18-16 тык. кал. л.н.) демонстрируют прямык аналогии с индустриями памятников Хопейонгдонг и Хавагайри (возраст 25-19 тык. кал. л.н.). Более поздние приморские палеолитические комплексы - Суворово 3, Устиновка 6, Илистая 1 и Горбатка 3 аналогичны индустриям корейских стоянок Сонгдури и Гигок и китайских памятников Датонг и Юафанг. В связи с похолоданием резко возрастает мобильность древнего человека, который стал активно осваивать освободившиеся от моря прибрежные ареалы. Вдоль прибрежной полосы происходит миграция на соседние территории российского Приморья. Процесс этот быт неоднократен и осуществлялся в обе стороны.
Поздний палеолит, отжимное расщепление, клиновидные микронуклеусы, наконечники стрел, корея, китай, российское приморье
Короткий адрес: https://sciup.org/145146196
IDR: 145146196 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0099-0104
Текст научной статьи Поздний палеолит Приморского региона после последнего оледенения
В настоящее время можно считать доказанным, что палеолитическое население в российском Приморье появляется не ранее 18 тыс. кал. л.н. Существует много случайных находок каменных изделий древнего облика, с дефлированной поверхностью, но надежно стратифицированных, или подтвержденных радиоуглеродными датировками комплексов нет. В то же время, на территориях к югу и юго-западу от Приморья обнаружено и изучено большое количество памятников с микропластин-чатыми индустриями, относящихся ко времени еще до начала последнего максимального оледенения в плейстоцене. Нами уже высказывалась точка зрения о сомнительности заселения Приморья с Сахалина или Амурского региона и предлагался сценарий проникновения палеолитического населения в этот регион с юга или юго-запада, т.е. с территорий Кореи и Китая [Гладышев, 2019, 2020].
Предлагаемая статья продолжает начатую тематику. В ней дается краткий анализ существующих в российском Приморье позднепалеолитических комплексов, время существования которых приходится на период после последнего максимального оледенения в плейстоцене. Наряду с этим рассматриваются и материалы археологических памятников этого периода на соседних территориях Кореи и Китая. В отличие от проблематики становления верхнего палеолита в этих регионах, анализ археологических материалов послеледникового периода в научной литературе занимает крайне мало места.
Наиболее полно корейские материалы этого времени изложены в обобщающих работах Ч. Се-онга [Seong, 2011, 2015]. В литературе, посвященной позднему палеолиту северного и северо-западного Китая в послеледниковое время, более менее подробно освещены стоянки раннего дриаса (от 11,5 тыс. кал. л.н.).
Комплексы позднего палеолита Китая и Кореи после LGM
Характеризуя комплексы позднего палеолита Кореи и Китая, относящиеся к периоду после последнего плейстоценового ледникового максимума, следует упомянуть об одном интересном явлении. И в Китае, и в Корее количество памятников этого времени резко сокращается. К тому же они хуже датированы, чем стоянки раннего верхнего палеолита и ледникового периода [Seong, 2011, 2015]. Наибольшее количество датированных стоянок приходится на начало последнего оледенения, на период 24–20 тыс. кал. л.н. Ряд исследователей предполагают, что после 20 и до 15 тыс. кал. л.н., 100
в силу изменения природных условий, происходит отток населения с Корейского полуострова [Seong, 2015] и из Северо-Восточного Китая.
В Корее наиболее яркими представителями послеледниковых каменных индустрий являются комплексы стоянки Хопейонгдонг (Hopyeong-dong), верхние слои секторов С, D и верхний горизонт стоянки Хавагайри (Hahwagye-ri). В верхнем слое сектора D обнаружено 864 обсидиановых артефакта, коллекция состоит из клиновидных микронуклеусов, проколок и микросверел и микропластинок. Это самый древний в Корее обсидиановый комплекс. Его возраст датируется самым пиком последнего оледенения (25–26 тыс. кал. л.н.). В верхнем слое сектора C найдены только кремневые микропластинки. Этот комплекс обеспечен большой серией дат в пределах 19 тыс. кал. л.н. [Seong, 2015, p. 99]. Корейские исследователи отмечают, что, если первые комплексы с микронуклеусами содержали также и острия с выделенным черешком, то после 17 тыс. кал. л.н. стоянки позднего палеолита содержат только микроиндустриальные ассамбля-жи, без черешковых острий [Seong, 2015, p. 104]. На стоянке Гигок (Gigok) обнаружено более 5000 артефактов этого времени. Они сделаны из кремнистого сланца, обсидиана и кристаллического кварца. Комплекс включает в себя клиновидные микронуклеусы, пластинки и микропластинки, а также три би-фасиально обработанных наконечника стрелы. Это свидетельствует о появлении лука и стрел в позднем палеолите Кореи. Микролитические комплексы Кореи постледникового времени, кроме микронуклеусов и микропластин, содержат также скребки и концевые скребки, резцы, проколки и ножи со спинкой. Встречаются также и орудия с подшлифовкой рабочего края. Имеющиеся на сегодняшний день радиоуглеродные датировки свидетельствуют, что древнее население Кореи значительно возросло в период перед последним оледенением и в его первой половине. После максимума последнего оледенения количество археологических памятников резко сокращается вплоть до начала неолитической эпохи. На послеледниковое время приходится очень небольшое количество достоверных радиоуглеродных дат, это стоянки: Хавагайри (13390 ± ± 60 л.н.), Сонгдури (Songdu-ri) (11850 ± 190 л.н.) и Гигок (Gigok) (10200 ± 60 л.н.).
Причины сокращения количества археологических объектов и, следовательно, древнего населения Кореи в послеледниковое время неясны. Предлагаются две гипотезы. Первая, что в связи с возросшей мобильностью в холодное время, древний человек стал активнее перемещаться и совершал постоянные миграции на соседние территории и обратно. Вторая, что древний человек предпочи- тал прибрежные ареалы обитания, которые были затоплены после потепления океаном. Обе эти гипотезы в настоящее время требуют аргументированных доказательств.
В Северо-Восточном Китае, практически на границе с российским Приморьем, находится стратифицированная стоянка Датонг (Datong). Археологический комплекс стоянки содержит индустрию, основанную на расщеплении клиновидных нуклеусов и большой набор орудий из микропластин и пластинок [Kato, 2014, p. 107]. Археологическая коллекция стоянки Датонг очень близка по своему составу с материалами памятника Юа-фанг (Youfang), расположенному в Северном Китае [Там же]. Индустриальный комплекс стоянки Юафанг датируется OSL методом в очень широком диапазоне, причем даты распределяются в две группы. Первая группа имеет диапазон от 29 до 25 тыс. кал. л.н. Во вторую группу входят даты от 16,5 до 14, 5 тыс. кал. л.н. [Yi Mingjie et al., 2016, p. 135]. Наиболее интересны комплексы второй группы, которые характеризуются клиновидными микронуклеусами, микропластинками, резцами, проколками и концевыми скребками.
Комплексы позднего палеолита российского Приморья после LGM
Комплексы конца позднего палеолита Приморья можно охарактеризовать сочетанием развитых пластинчатой (расщепление подпризматических ядрищ) и миропластинчатой (микроклиновидные нуклеусы) технологий и широким спектром орудий, среди которых представлены инструменты для обработки всех видов продуктов охотничье-собира-тельской деятельности [Крупянко, Табарев, 2015, с. 100]. Надежно стратифицированные и датированные памятники финала позднего палеолита сконцентрированы в двух районах: в континентальной части Приморья и в бассейне р. Зеркальной.
Из группы памятников в бассейне р. Зеркальной наиболее выразительные материалы получены на стоянках Суворово 3, Суворово 4 и Суворово 6. Ведущей техникой расщепления здесь была призматическая система получения пластин и пластинок и микропластинчатая техника.
На стоянке Суворово 3 расщепление представлено пластинчатой и микропластинчатой техниками. Орудия составляют 2,3 % от общего числа находок, что является весьма высоким показателем для этого региона. Среди орудий выделяются ножи, резцы, проколки, скребки, скребла, наконечники и рубящие инструменты. Радиоуглеродных дат для палеолитического комплекса стоянки нет. Большинство специалистов считают, что возраст археологических материалов стоянки Суворово 3 соответствует самому концу плейстоцена – началу голоцена – 11–10 тыс. л.н. Несколько отличается от нее каменная индустрия памятника Суворо-во 4. Процент орудий здесь значительно ниже, чем на Суворово 3–1,3 %. Преобладающей техникой расщепления является подпризматическая техника получения пластин и пластинчатых заготовок (207 экз.), а микропластинчатая техника занимает подчиненное положение и выражена не столь ярко, как в комплексе Суворово 3. В орудийном наборе стоянки широко представлены ножи с бифасиаль-ной обработкой, орудия для обработки дерева (топоры, тесла, сверла, резчики), скребки и скребла. Все это свидетельствует о широком круге хозяйственных занятий обитателей этой сезонной стоянки. Из культурного слоя получены четыре радиоуглеродные даты, определяющие возраст памятника в пределах 16–15 тыс. л.н. [Крупянко, Табарев, 2015, с. 102, табл.].
По многим технико-типологическим показателям инвентарь Суворово 4 близок комплексу стоянки Суворово 6, где найдены как крупные, так и миниатюрные деревообрабатывающие инструменты, скребки и скобели, сделанные как на пластинках, так и пластинчатых отщепах, подпризматические ядрища и бифасиальные орудия. Всеми признаками сезонной стоянки обладает каменный инвентарь Устиновки 6, еще одного памятника в бассейне р. Зеркальная [Кононенко, 2001], коллекция которой составляет более 26 тыс. предметов. Среди ядрищ (102 экз.) выделяются подпризматические, клиновидные, аморфные, есть и один нуклеус конических очертаний. В орудийном наборе широко представлены бифасы и их заготовки (67 экз.), односторонне обработанные изделия (10 экз.), наконечники стрел (4 экз.), резцы (9 экз.), скребки (19 экз.), скребла (5 экз.), фрагменты рубящих инструментов (4 экз.), терочники и абразивы. Для стоянки имеются две радиоуглеродные даты в диапазоне от 12 до 11,5 тыс. л.н. [Кононенко, 2001, с. 45].
Несколько особняком среди «устиновских» комплексов стоит коллекция стоянки Устиновка 5. Особенности ее археологического материала связаны со спецификой и исключительной однородностью используемого сырья – липарита, которое добывалось непосредственно на месте локализации стоянки. Возможно сть использования отдельных изделий из липарита и существования подобных «чистых» литологических комплексов высказывалась давно, но фактическое подтверждение получено лишь с обнаружением памятников Устиновка 5 и Садовая 4 в долинах р. Зеркальной и ее крупнейшего притока – ключа Садового. Интерпрета- ция автором раскопок материала, полученного при раскопках (1999, 2003 гг.) и сборах с поверхности (1987–2002 гг.), как и мнение коллег, сегодня неоднозначны. Автор раскопок, А.А. Крупянко считает, что представленные в собранной коллекции артефакты: массивные нуклевидные и скребловид-но-тесловидные изделия, крупные грубые сколы с эпизодической краевой унифасиальной ретушью (остроконечники и скребла), многочисленные куски тестированного сырья, типологическим своеобразием выбиваются из контекста «устиновской» археологической индустрии и представляют более древний этап заселении территории. На это же, по его мнению, указывает и особенность их стратиграфической дислокации [Крупянко, 2002]. Следует возразить, что на «чистых», типичных мастерских на выходах сырья, материал зачастую выглядит гораздо более архаичным, чем на синхронных ему по времени стоянках и временных охотничьих лагерях. В археологической практике этому существует множество примеров.
В континентальной части Приморья выразительные технологические комплексы позднего палеолита с преобладанием галечного обсидиана в качестве основного сырья описаны для стоянок Горбатка 3 и Илистая 1 [Кузнецов, 1992]. На памятнике Горбатка 3 по образцу угля из слоя черного суглинка получена дата 13500 ± 200 л.н., которая может определять нижнюю возрастную границу комплекса. Наиболее многочисленная коллекция каменных изделий (до 65 % на обсидиане) зафиксирована в подпочвенном суглинке. Заготовки и отщепы составляют 95 % от общего количества инвентаря, нуклеусы (микропластинчатые) и пластины – 4 %, изделия со вторичной обработкой в виде ретуши и резцового скалывания – 1 %. В орудийном наборе устойчивыми сериями представлены скребки, одно- и многофасеточные резцы, острия. Коллекция каменного инвентаря памятника Илистая 1 насчитывает около 25 тыс. экз., из которых 96 % – это изделия в начальной стадии изготовления и преформы. Пластин и нуклеусов – 3 %, артефактов с вторичной обработкой – не более 1 %. В ней ярко представлены различные модификации микронуклеусов, многофасеточные резцы, скребки, острия, ретушированные пластины и от-щепы, листовидные бифасы и их фрагменты [Кузнецов, 1992].
В настоящее время существует несколько точек зрения на проблему происхождения приморского палеолита и время первоначального заселения этого региона.
В.И. Дьяков считает, что устиновская культура – это действительно на сегодняшний день вполне реальное явление, и она непосредственно предше-102
ствует эпохе неолита». Кроме того, устиновская индустрия ни на какие этапы не делится и является мезолитической. Она существует в хронологическом диапазоне от 10 до 8 тыс. л. н. и непосредственно предшествует руднинской неолитической культуре, или даже частично сосуществует с ней. Все известные радиоуглеродные даты с плейстоценовым возрастом, по мнению В.И. Дьякова, не являются валидными [Дьяков, 2000, с. 31, 32, 164].
Н.А. Кононенко выделяет несколько хронологических этапов в развитии устиновского комплекса. Первый этап занимает диапазон от 33 до 30 тыс. л.н. и характеризуется пластинчатыми комплексами. В подтверждении этого тезиса исследователь приводит только геоморфологические наблюдения. Хронологически этот этап совпадает с фазой отно сительного похолодания черно-ручьинского (каргинского) интерстадиала. Второй этап – ранние микропластинчатые комплексы (18600–12000 л. н.). Доказательная база основывается на палинологических спектрах, характерных для холодных ландшафтов, локализации стоянок на 40-метровой террасе, отсутствие резцов, микронуклеусы на бифасах, бедный типологический состав бифасиальных орудий. Начало этапа определяется датой 18600 л. н. (OSL) для Устинов-ки 7, окончание — распространением комплексов с развитой микропластинчатой индустрией типа Устиновка 6. К этому же этапу отнесены такие памятники, как Устиновка 7а и Устиновка 5. Третий этап представлен микропластинчатыми комплексами, к нему относится стоянка Устиновка 6. Для стоянки имеются две радиоуглеродные даты, которые позволяют определять время ее существования в пределах 12–11,5 тыс. л.н. [Кононенко, 2001, с. 45]. Каменная индустрия этого этапа характеризуется пластинчатой технологией и многовариантным расщеплением. Присутствуют микронуклеусы на бифасах, ладьевидных заготовках, разнообразные резцы, рубящие орудия, скребки. Появляются наконечники стрел и украшения из камня. Четвертый этап связан с поздними микро-пластинчатыми комплексами и занимает хронологический диапазон от 11,5 до 10,5 тыс. л.н., хотя радиоуглеродных дат для него нет. К этому периоду относятся стоянки Суворово 6 и Устиновки 4. В инвентаре появляются подшлифованные изделия, а также остатки жилых конструкций и производственные площадки. К пятому этапу относятся бифасиальные комплексы стоянки Устиновка 3 (10,5–9,5 тыс. л.н.). Исследователи отмечают такие инновации, как сооружение жилых конструкций, появление керамики и керамического производства, тепловая обработка камня. Все эти элементы впоследствии получают свое развитие в комплексах руднинской неолитической культуры побережья [Кононенко, 2001, с. 50–51].
Еще одна точка зрения на происхождение и периодизацию приморского палеолита озвучена А.А. Крупянко. Наиболее древние материалы характеризуются ножами типа моро в липаритовых комплексах мастерских Устиновка 5 и Суворово-мастерская, а также наличием дифлированных артефактов [Крупянко, 2015, с. 105]. Для этого этапа пока нет абсолютных радиоуглеродных датировок, и А.А. Крупянко отмечает, что он может быть датирован возрастом древнее 16 тыс. л.н. Второй этап характеризуется материалами памятников Суворово 4, 6 и Устиновка 5, близкими по технике расщепления и обработке орудий. Для него есть пять радиоуглеродных дат (Суворово 4, Устинов-ка 5) старше 15 тыс. л.н., полученных по углю, собранному из культурного слоя. Третий этап занимает период от 12 до 10,5 тыс. л.н. Он представлен большинством памятников Приморья. В это время происходит эволюция и совершенствование приемов расщепления микронуклеусов, появляются диагностичные типы резцов, тонко ретушированные наконечники. Вероятно, с этим этапом связаны остатки производственно-жилищных конструкций. Появляется маркер миграционных процессов или интенсивного обмена – импортный обсидиан. Четвертый этап захватывает период от 10,5 до 9 тыс. л.н. Это очень динамичное время, связанное, в первую очередь, с «керамической миграцией». Выделение этого этапа логически предопределяется с одной стороны, традициями развития финальнопалеолитической индустрии, с другой стороны – изменениями в природно-климатической обстановке плейстоцен-голоценового рубежа. К этому этапу в настоящее время относятся материалы стоянки Устиновка 3 и рядом производственных и орудийных комплексов с сырьевой спецификой [Крупянко, 2015, с. 106].
Приведенные выше мнения свидетельствуют, что, опираясь на одни и те же материалы, разные исследователи приходят к разным выводам. Иногда эти выводы различаются только в деталях, а иногда становятся и кардинально противоположными. Например, В.И. Дьяков, что в Приморье вообще не было палеолита, а каменный век региона начинается в мезолотическое время. Подводя итог, можно сказать, что наиболее древние, надежно документируемые и подтвержденные радиоуглеродными датами палеолитические комплексы, обнаружены на юге Приморья, в бассейне р. Зеркальной (Су-ворово 4, Устиновка 5). В дальнейшем эта позднепалеолитическая культура, чаще всего называемая
«устиновская» существует, эволюционируя, вплоть до рубежа плейстоцена-голоцена.
Заключение
В отечественной археологической литературе, несмотря на очевидный разнобой в интерпретации приморского палеолита, его периодизации, обосновании различных этапов развития, практически не затронуты проблемы его происхождения. Традиционно, корни приморского палеолита видят либо в палеолитических комплексах Японии, либо в континентальной части Северной Азии (Амурский регион). Критический анализ этих парадигм дан нами в предыдущих публикациях [Гладышев, 2019, 2020].
В то же время, на соседних территориях, в Корее и в Китае, суще ствует большое количе ство археологических объектов с аналогичным приморскому материалом. В Корее наиболее яркими представителями послеледниковых каменных индустрий являются комплексы стоянки Хопей-онгдонг (Hopyeong-dong), Хавагайри (Hahwagye-ri), Сонгдури (Songdu-ri) и Гигок (Gigok), в Северо-Восточном Китае – Датонг (Datong) и Юафанг (Youfang). Индустриальные комплексы этих стоянок характеризуются клиновидными микронуклеусами, концевыми скребками, резцами, проколками, сверлами, листовидными бифасами, наконечниками стрел и ретушированными микропластинами. В российском Приморье ближайшие аналогии этим комплексам обнаруживаются в коллекциях стоянок устиновской группы. Материалы ранних памятников Приморья – Суворово 4, Устиновка 5, 7 (возраст – 18–16 тыс. кал. л.н.) демонстрируют прямые аналогии с индустриями памятников Хопейонгдонг и Хавагайри (возраст 25–19 тыс. кал. л.н.). Более поздние приморские палеолитические комплексы – Суворово 3, Устиновка 6, Илистая 1 и Горбат-ка 3 аналогичны индустриям корейских стоянок Сонгдури и Гигок и китайских памятников Датонг и Юафанг.
Интересен тот факт, что после 20 и до 15 тыс. кал. л.н., в силу изменения природных условий, происходит отток населения с Корейского полуострова и из Северо-Восточного Китая. В связи с похолоданием резко возрастает мобильность в древнего человека, который стал активно осваивать освободившиеся от моря прибрежные ареалы. Вдоль прибрежной полосы происходит миграция на соседние территории российского Приморья. Процесс этот был неоднократен и осуществлялся в обе стороны.
Исследование выполнено в рамках программы НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0002.
Список литературы Поздний палеолит Приморского региона после последнего оледенения
- Гладышев С.А. Поздний палеолит Приморья (к вопросу о происхождении) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 80-85. doi:10.17746/2658-6193.2019.25.080-085
- Гладышев С.А. Истоки позднего палеолита Приморья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - С. 51-57. doi:10.17746/2658-6193.2020.26.051-057.
- Дьяков В.И. Приморье в раннем голоцене (мезолитическое поселение Устиновка-IV). - Владивосток: Даль-наука, 2000. - 228 с.
- Кононенко Н.А. Экология и динамика археологических культур в долине р. Зеркальной в конце плейстоцена - начале голоцена (Устиновский комплекс, Российский Дальний Восток) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2001. - № 1 (5). - С. 40-59.
- Крупянко, А.А. К вопросу о «доустиновском» заселении долины р. Зеркальной // Пластинчатые и микро-пластинчатые индустрии в Азии и Америке: материалы международной научной конференции. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. - С. 55-58.
- Крупянко А.А. Палеолит Приморья: проблемы периодизации // Вестник Бурятского гос. ун-та. Серия: История. - 2015. - № 7. - С. 101-109. doi:10.18097/1994-0866-2015-0-7-101-109.
- Крупянко А.А., Табарев А.В. Палеолит Приморья // Ученые записки Сахалинского гос. ун-та. - Южно-Сахалинск: Сахалинский гос. ун-т (XI/XII), 2015. - С. 96-108.
- Кузнецов А.М. Поздний палеолит Приморья. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1992. - 240 с.
- Kato Shinji. Human Dispersal and Interaction During the Spread of Microblade Industries in East Asia // Quaternary International. - 2014. - no. 347. - P. 105-112. doi:10.1016/j. quaint.2014.07.013.
- Seong Chuntaek. Evaluation Radiocarbon Dates and Late Paleolithic Chronology in Korea // Arctic Anthropology. - 2011. - Vol. 48, no. 1. - P. 93-112.
- Seong Chuntaek. Diversity of Lithic Assemblages and Evolution of Late Palaeolithic Culture in Korea // Asian Perspectives. - 2015. - Vol. 54, no. 1. - P. 91-112. doi:10.1353/asi.2015.0004.
- Yi Mingjie, Gao Xing, Li Feng, Chen Fuyou. Rethinking the Origin of Microblade Technology: A Chronological and Ecological Perspective // Quaternary International. - 2016. -no. 400. - P. 130-139. doi:10.1016/j.quaint.2015.07.009.