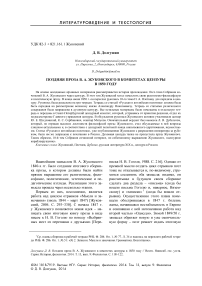Поздняя проза В. А. Жуковского в комитетах цензуры в 1850 году
Автор: Долгушин Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и текстология
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
На основе неизданных архивных материалов рассматривается история прохождения 10-го тома Собрания сочинений В. А. Жуковского через цензуру. В этот том Жуковский хотел поместить свою религиозно-философскую и политическую прозу. В конце июня 1850 г. он переслал рукопись 10-го тома П. А. Плетневу для передачи в цензуру. Рукопись была разделена на три тетради. Тетрадь со статьей «Русская и английская политика» должна была быть передана на рассмотрение великому князю Александру Николаевичу. Тетрадь со статьями религиозного содержания была направлена в духовную цензуру. Все остальные материалы были помещены в отдельную тетрадь и переданы в Санкт-Петербургский цензурный комитет, который, устраняясь от принятия решения, отдал их на рассмотрение Главного управления цензуры. В обсуждении рукописи Жуковского активно участвовали цензор Ю. Е. Шидловский, К. С. Сербинович, сенатор Митусов. Окончательный вердикт был вынесен Л. В. Дубельтом, который, не отрицая высоких достоинств философской прозы Жуковского, счел обсуждаемые в ней вопросы слишком актуальными и, в соответствии с цензурной политикой конца николаевского царствования, неуместными. Статья «Русская и английская политика», уже опубликованная Жуковским с разрешения императора за рубежом, была им же запрещена к печатанию в России. Духовная цензура также не пропустила прозу Жуковского. Таким образом, 10-й том Собрания сочинений потерпел, по собственному выражению Жуковского, «цензурное кораблекрушение».
Жуковский, плетнев, дубельт, русская литература xix в., цензура в России
Короткий адрес: https://sciup.org/147219186
IDR: 147219186 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Поздняя проза В. А. Жуковского в комитетах цензуры в 1850 году
Важнейшим замыслом В. А. Жуковского 1840-х гг. было создание итогового сборника прозы, в котором должны были найти прямое выражение его религиозные, философские, политические, эстетические и педагогические взгляды. Реализация этого замысла прошла через несколько этапов.
Первым из них, несомненно, является работа над циклом отрывков «Мысли и замечания» (июль 1844 – март 1847) [Жуковский, 2004. С. 293–330]. С начала 1847 г. у Жуковского появляется новая идея – написать свою итоговую книгу прозы в виде писем к Н. В. Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» [Пере- писка Н. В. Гоголя, 1988. С. 216]. Однако от прежней мысли создать цикл отрывков поэт тоже не отказывается и, по-видимому, стремится соединить оба замысла: видимо, он рассчитывал в будущем своем сборнике сделать два раздела – «письма» (сюда бы вошли письма Гоголю и, наверное, Вяземскому) и «записки» 1 (сюда бы вошли отрывки). Осуществлению этого плана помешали обострившаяся в 1847 г. болезнь жены, начавшаяся нестабильность в Европе и совпавшая с ней интенсивная работа над второй частью «Одиссеи». Зимой 1849/50 г. замысел обретает новую и уже окончательную форму – поэт решает издать итоговую книгу прозы в виде 10-го тома Полного собрания своих сочинений, девять первых томов которого были уже отпечатаны и лежали на складе в Петербурге, ожидая распоряжения пустить их в продажу.
Передавая через П. А. Плетнева подготовленные для сборника материалы 10-го тома в цензуру 2, Жуковский распределил их на три тетради [Сочинения…, 1885. С. 671]. В тетрадь № 2 он поместил статью «Русская и английская политика». Эту тетрадь по просьбе поэта П. А. Плетнев должен был передать на рассмотрение цесаревичу Александру Николаевичу, так как для публикации содержащихся в ней рассуждений о внешней политике требовалось высочайшее разрешение. Статья «О внутренней христианской жизни», а также некоторые отрывки богословского содержания были помещены в тетрадь № 3 и 18 июля 1850 г. направлены в духовную цензуру 3. Все остальные материалы были помещены в тетрадь № 1 и переданы в Санкт-Петербургский цензурный комитет. В отсутствие попечителя Санкт-Петербургского округа М. Н. Мусина-Пушкина обязанности председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета выполнял П. А. Плетнев (по должности ректора Петербургского университета), что, казалось бы, должно было благоприятствовать успеху. Но и Плетнев не мог действовать иначе, как официальным порядком. Он передал тетрадь № 1 на цензурирование члену комитета Ю. Е. Шидловскому.
Шидловский представил свое заключение 22 августа 1850 г. 4, в нем предлагал часть рукописи Жуковского направить на рассмотрение Придворной цензуры, часть – на рассмотрение Духовной цензуры, а часть – в вышестоящий орган, в Главное управление цензуры [Сочинения…, 1885. С. 681– 682]. Таким образом, он избрал типичную для того времени тактику 5, когда цензоры старались избавиться от спорных дел, переложив их на плечи друг друга, и избежать риска принятия неверного решения, за которое можно было поплатиться местом. Плетневу не оставалось ничего другого, как, в надежде обойти возникшее препятствие, отправить в Главное управление всю рукопись целиком.
Члены Управления оказались в затруднительном положении. С одной стороны, строгая цензурная политика «мрачного семилетия» (1848–1855) подсказывала отрицательное решение, с другой – авторитет и придворные связи Жуковского делали простой отказ ему невозможным. В этой ситуации они пошли тем же проверенным путем перекладывания ответственности, что и Шидлов-ский: постановили исследовать вопрос глубже, а для того составить особую записку, на основе которой Главное управление могло бы принять окончательное решение. Обязанность эта была возложена на председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусина-Пушкина, а он перепоручил ее своему подчиненному – все тому же Ю. Е. Шидловскому: неприятная необходимость цензурировать небезопасную рукопись бумерангом вернулась к нему.
Шидловский, по выражению П. А. Плетнева, «потел, потел – и написал разбор в 20-ть листов» [Сочинения…, 1885. С. 682]. Выводы его были прежними: он предлагал часть рукописи передать на рассмотрение Министра императорского двора, часть – на усмотрение Духовный цензуры, а по поводу остальной части заявлял, что допустит ее только в том случае, если Главное управление одобрит места в рукописи Ж., показавшиеся ему, Шидловскому, сомнительными 6.
Из-за ограничений объема здесь нет возможности подробно излагать все перипетии дальнейших цензурных мытарств 10-го тома. Скажем вкратце, что деятельную попытку спасти его от «кораблекрушения» предпринял К. С. Сербинович, который с 1850 г. являлся членом Главного управления цензуры от духовного ведомства и, будучи уже на протяжении многих лет директором канце-
Комментарии К. С. Сербиновича к текстам В. А. Жуковского
|
Фрагмент текста Жуковского * |
Замечания Сербиновича |
|
«невидимый видимого Создатель» (А) |
«Это сказано о Боге и совершенно справедливо. Для строгой полноты надлежало бы прибавить: и невидимого. <Нигде> нет отрицания сего последнего, а говорится об одном видимом потому только, что Создатель невидим, т. е. для контраста» (л. 1 об.) |
|
«Христианская философия, напротив, извлекает все из идеи Бога: в ней понятие о лице, о человеке, об отношениях человека к миру и его Создателе, суть результат неумотворного понятия о Боге» (А) |
«Выражение новое, но верное, и нет ничего противного цензуре» (л. 3) |
|
«Скажу более, нам не только не можно, но и не нужно и даже не должно искать таких доказательств бытия Божия, какими убеждаемся мы во всякой другой доступной рассудку истине» (И) |
«Многим покажется это несправедливо, даже непонятно. Но не от усилий ли доказывать аксиому происходят все сомнения?» (л. 3 об.) |
|
«Я вижу пред собою титана науки; он обхватил могучим умом все, что уму на земле обхватить возможно, но он стоит посреди своих, собранных им сокровищ как тюремщик посреди своих колодников, с которым вместе и сам он колодник » (Н). |
«Выражение, правда, резкое, но употребительное для изображения ложной мудрости или мудрости без веры, науки без откровения. В чем же тут сомневаться?» (л. 4 об.) |
|
«Что есть свобода? Совершенная подчиненность воле Божией всегда, во всем, везде и ничему иному » (С) |
«Сомнение цензора родилось от того, что мысль не развита в подробности. Но она не исключает повиновения властям, а напротив того заключает его в себе, ибо повиноваться властям велит Бог» (л. 19) |
* Слова подчеркнуты цензором.
лярии обер-прокурора Св. Синода, мог квалифицированно выносить суждения по богословским вопросам. Он написал пространный и доброжелательный отзыв на текст Жуковского и замечания на замечания Шид-ловского 7.
Нужно сказать, что в конце 1840-х гг. произошло заочное сближение между Сербино-вичем и Жуковским. Узнав от П. А. Плетнева о кончине жены Сербиновича, поэт прислал ему весьма теплое соболезнование 8, а в письме от 7 октября 1848 г. просил П. А. Плетнева привлечь Сербиновича к участию в своих издательских делах. Оправдывая доверие Жуковского, Сербинович, видимо, старался поспособствовать публикации его поздней прозы и написал разбор замечаний, сделан- ных на нее цензором. Возможно, этот разбор был представлен на рассмотрение Главного управления цензуры, а может быть, предназначался для передачи П. А. Плетневу, чтобы тот мог спланировать дальнейшие усилия по изданию сборника Жуковского.
Содержащиеся в рукописи Сербиновича замечания максимально доброжелательны по отношению к Жуковскому. Значительная их часть направлена на то, чтобы показать, что «сомнительные» места в его прозе на самом деле не должны вызывать сомнений, если понять их правильно (см. таблицу).
К обсуждению сборника Жуковского активно подключился и еще один член Главного управления цензуры – сенатор Митусов, который 5 ноября 1850 г. представил свою записку «О новых сочинениях Жуков-9 ского»
Шестого ноября 1850 г. дело о книге Жуковского было передано на рассмотрение Л. В. Дубельту, который тоже был членом Главного управления цензуры. Двадцать третьего декабря он затребовал рукопись книги для ознакомления, а 26 декабря вернул ее с отзывом, исполненным пиетета перед Жуковским, но крайне не благоприятным для эдиционных судеб его творения. Дубельт заявил, что хотя в благонамеренности поэта сомневаться невозможно, однако вопросы, поднимаемые им таковы, что публично обсуждать их в настоящее время вредно: «размышления вызывают размышления, звуки – отголоски, иногда неверные. Благоразумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушительных переворотов в Западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух. Самое верное средство предостеречь от зла – удалять самое понятие о нем» 10.
Удивительно, но и этот удар не оказался для рукописи Жуковского смертельным. Даже после заключения Дубельта министр народного просвещения гр. П. А. Ширин-ский-Шихматов не решался отказать Жуковскому и предлагал Плетневу передать рукопись 10-го тома на Высочайшее рассмотрение. Но с этим не согласился уже сам Жуковский, который, едва узнав о цензурных трудностях своей книги, немедленно попросил забрать ее из цензуры.
Судьба двух остальных тетрадей Жуковского сложилась аналогично. Тетрадь, переданная на рассмотрение в Духовную цензуру, попала к одну из самых строгих цензоров архимандриту Иоанну (Соколову), который отказался пропустить ее в печать 11. Что касается статьи «О русской и английской политике», то поэт еще весной 1850 г. прислал ее С. П. Шевыреву для перевода на русский язык. Шевырев выполнил перевод и представил его в Московский комитет цензуры для публикации. Московский комитет повел себя подобно Петербургскому и не решился сам принимать какое-либо решение. Председатель Московского комитета В. Назимов 19 мая 1850 г. передал вопрос на рассмотрение министра народного просвещения П. А. Ширинского-Шихматова, сопроводив, правда, свою просьбу довольно красноречивым письмом, написанным в поддержку статьи Жуковского 12. Ширинский-Шихма-тов сам также не смог решить дела и 31 мая 1850 г. передал его на Высочайшее усмотрение в сопровождении соответствующего прошения. Резолюция, наложенная императором на это прошение была краткой и однозначной: «не должно печатать» 13. Таким образом, цензурная судьба статьи «О русской и английской политике» была решена еще весной 1850 г., и когда П. А. Плетнев попытался хлопотать о ее проведении через цензуру, ему оставалось только принять к сведению информацию об этом.
Таким образом, 10-й том потерпел полное, по выражению самого Жуковского, «цензурное кораблекрушение» и остался не опубликованным. Получив его рукописи из цензуры, П. А. Плетнев, по просьбе Жуковского, приказал сделать с них копии, а оригиналы отослал к А. П. Елагиной [Из переписки П. А. Плетнева, 1987. С. 31]. Он переживал цензурную неудачу тома чуть ли не больше, чем сам автор и пытался уговорить его продолжить борьбу, однако Жуковский был непреклонен. Возможность предпринять вторую попытку издания поздней прозы поэта появилась лишь после его кончины.
Список литературы Поздняя проза В. А. Жуковского в комитетах цензуры в 1850 году
- Дубровин Н. В. В. А. Жуковский перед судом Санкт-Петербургского цензурного комитета // Русская старина. 1900. Т. 102. С. 69-71.
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. / Сост. и ред. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М., 2004. Т. 14 Из переписки П. А. Плетнева / Публ. Е. П. Горбенко // Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1987. С. 19-48.
- Котович А. Духовная цензура в России в Список сокращений XIX веке. СПб., 1909. 641 с.
- Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Под ред. В. Вацуро и др.; вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова, М. Вироислайнен. М.: Худож. лит., 1988. Т. 1. 479 с.
- Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885. Т. 3. 755 с.