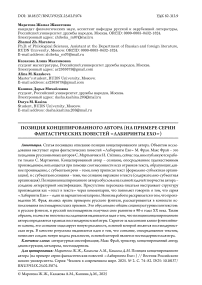Позиция концепированного автора (на примере серии фантастических повестей «Лабиринты Ехо»)
Автор: аратова Ж.Ж., Казакова А.М., Кашина Д.М.
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию позиции концепированного автора. Объектом исследования выступает серия фантастических повестей «Лабиринты Ехо» М. Фрая. Макс Фрай – это псевдоним русскоязычных авторов С. Мартынчик и И. Стёпина, сейчас под ним публикуются работы только С. Мартынчик. Концепированный автор – сознание, опосредованное художественным произведением, воплощается при помощи соотнесенности всех отрывков текста, образующих данное произведение, с субъектами речи – теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и c субъектами сознания – теми, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация). Позиция концепированного автора обусловлена главной задачей творчества автора – создание литературной мистификации. Присутствие персонажа-писателя выстраивает структуру произведения как «текст в тексте» через комментарии, что позволяет говорить о том, что серия «Лабиринты Ехо» – один из вариантов метапрозы. Новизна работы раскрывается в том, что произведения М. Фрая, являясь ярким примером русского фэнтези, рассматриваются в контексте использования постмодернистских приемов. Это обусловлено общим социокультурным контекстом: и русское фэнтези, и русский постмодернизм получили свое развитие в 90-е годы XX века. Таким образом, в качестве гипотезы исследования выдвигается идея о том, что позиция концепированного автора определяется в рамках постмодернистской игры. Скрытое за массовыми клише фэнтезийного канона, это сознание моделирует новую реальность, основой которой является постмодернистская игра. В качестве результата выдвигается идея о том, что сознание, опосредованное текстом, позволяет создать новую модель реальности, основой которой является постмодернистская игра.
Литературная мистификация, Макс Фрай, трикстер, концепированный автор, деконструкция, метапроза, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148331070
IDR: 148331070 | УДК: 82-312.9 | DOI: 10.18137/RNU.V925X.25.02.P.074
Текст научной статьи Позиция концепированного автора (на примере серии фантастических повестей «Лабиринты Ехо»)
Макс Фрай – литературный псевдоним, принадлежащий русскоязычной писательнице и художнице Светлане Юрьевне Мартынчик (род. 1965) и художнику Игорю Викторовичу Стёпину (1967–2018). Впоследствии под данным именем стала писать только С. Мартынчик. Основой их творчества стал мир Соединенного Королевства со столицей Ехо, где происходили события в циклах «Лабиринты Ехо», «Мой Рагнерёк», «Хроники Ехо», «Сновидения Ехо». Сэр Макс – главный герой всех историй, обычный человек 29 лет, который попал в Ехо через сон и стал Ночным лицом господина Почтеннейшего Начальника Тайного Сыска. Каждая повесть рассказывает одну историю из жизни работников сыскного агентства.
Образ Макса Фрая в российской литературе является мистификацией, которая получила огромную популярность среди русскоязычных читателей по всему миру: «Литератор всегда врет – по определению <…> ну а мистификация – самый простой способ сделать эту ложь осознанной» [1, с. 9].
Мистификация – «термин, обозначающий литературное произведение, приписываемое действительным автором автору иному (реальному писателю, вымышленному лицу, лицу действительному, но не написавшему его) или выдаваемое за произведение “народного творчества”» [2]. Литературные мистификации «предполагают не только розыгрыш, но и конструирование фиктивного автора» [3, с. 215].
76 Вестник Российского нового университета
76 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
Это позволяет говорить об игровом начале при создании литературной мистификации. Так, например, Макс Фрай, подобно трикстеру, обманщику, способен, вывернув наизнанку прошлое, создать нечто новое.
Трикстер – это «мифологический комический персонаж, плут-озорник; нередко изображается как развратник, обжора; комический двойник героя»1. Данный персонаж является одной из ключевых фигур карнавальной культуры, которая, по мнению М. Бахтина, характеризуется амбивалентностью образов, в том числе и смеха [4, с. 25]. Таким образом, трикстер, являясь плутом и обманщиком, обличает ложь в форме игры и тем самым несёт положительное начало.
В работе «Мифологическая фигура трикстера: контуры, контексты и критика» [5] выделяются шесть одинаковых для всех культур характеристик данного образа:
-
1) противоречивость и пограничность;
-
2) трюкачество, склонность к обману;
-
3) способность к трансформации и изменению внешности;
-
4) способность к «переворачиванию ситуации»;
-
5) выполнение роли «божественного посланника и подражателя богов»;
-
6) выполнение функции «священного и распутного бриколера» [5, с. 33].
Его истоки берут начало в мифологии и фольклоре среди образов Гермеса, Локи, Одиссея, японских кицунэ, славянского скомороха и других. Трикстер – это «демо-нически-комический дублёр культурного героя, наделённый чертами плута, озорника» [6, с. 115] – божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или не подчиняющееся общим правилам поведения.
Благодаря амбивалентному характеру герой-трикстер выполняет функцию посредника между параллельно стоящими категориями, будь то социально-экономические отношения или же философские категории (жизнь-смерть, добро-зло, красота-уродство, богатый-бедный, аристократ-крестьянин). Для доказательства своей позиции трикстер использует художественный жест, имеющий не прагматичное ядро, а эпатаж – «непонимание» у читателей или остранение. Именно при помощи остранения трикстер способен указать на сакральную сущность мира читателю, связь с которой и отличает его от обычного жулика.
В XX веке интерес к образу трикстера возрождается, что наблюдается в тенденциях массовой культуры. Изучая современное общество, этнограф Ю. Слезкин объясняет этот скачок модернизацией рыночных отношений, когда нужен манипулятор, – посредник, ремесленник, актер или коммерсант, так как его знания и таланты востребованы в том обществе, где фактически уже все из товаров есть [7, с. 61].
Различные персонажи литературы, театра и кино воплощают собой некоторые черты характера трикстера, а деятели культуры превращаются в культурных персонажей, у которых трикстерство является стилем художественного поведения. К ним можно отнести Сальвадора Дали, Энди Уорхола, Марселя Дюшана и др.
В русскоязычной культурной среде подобной фигурой становится Макс Фрай. Его образ заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи, выворачивая наизнанку привычный мир, что созвучно с идеей карнавализации М. Бахтина. Кар-навализация – идея об «инверсии двоич-
Позиция концепированного автора (на примере серии фантастических повестей «Лабиринты Ехо»)
ных противопоставлений» [4, с. 65–78], то есть переворачивание смысла бинарных оппозиций. Появившись на литературном горизонте в 1990-х годах, Макс Фрай быстро привлек к себе внимание, в первую очередь благодаря игре с читателями: кто же на самом деле скрывается за псевдонимом.
Особенностью русского фэнтези является то, что чаще всего каноны волшебной сказки Толкина переданы в пародийно-сниженном ключе. Таким образом, выявляются характерные явления, ставшие основой для русского аналога. Это позволяет расширить понимание игры в контексте фэнтези, поскольку изначальная «игра в мифологию или с мифологией» получает свое развитие в духе карнавально-смехо-вой культуры: «Русская фэнтези 90-х гг. XX в. не только обладает игровой природой в плане создания фантастического образа, но и использует игру как основу для сюжетообразования» [8, с. 5].
С. Мартынчик и И. Стёпин, авторы фэнтезийного цикла, характеризовали себя иллюстраторами, поскольку видели воплощение вымышленного мира в виде пластилина. Так, «Мир Хомана» является прототипом вторичного мира, который впоследствии заполнился персонажами. Они опирались на принципы «одесского концептуализма», таким образом указывая на абсурдность действительности. Под псевдонимом подразумевались два человека, как отмечалось раннее. И. Стёпин занимался иллюстрацией мира, в котором происходили дальнейшие события, а также придумывал имена и названия. С. Мартын-чик, в свою очередь, работала над сюжетной составляющей и прорабатывала систе- му персонажей. Долгое время авторство было тайной для читателя, появлялось множество конспирологических теорий. Например, была версия о литературных рабах; появился образ голубоглазого африканского мужчины, который вписывался в мистификацию, созданную авторами. Именно этот портрет был расположен на задней обложке книг как реальное фото автора.
С. Мартынчик в книге «Энциклопедия мифов. Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа» отмечает, что идея псевдонима являлась языковой игрой: alcohol frei (нем.), то есть «без алкоголя» [9]. Это позволяет его трактовать как «без Макса», несмотря на его наличие как повествователя. Авторы, в свою очередь, заявляют, что их существование сомнительно, поэтому требует доказательств: «Мы иллюстраторы собственных мифов. Но тот, кто создает миф, сам живет в мифе. В каком-то смысле нас нет. <…> Нескромное обаяние пластилиновых ландшафтов – это уловка, с помощью которой мы пытаемся заставить вас обратить внимание на эти доказательства, прочитать наши бесконечные “досье” на собственные создания и на самих себя»1.
Также можно трактовать и перевод с английского как «максимально свободно» (max free), что также позволяет проследить языковую игру авторов [10]. Таким образом, можно предположить, что в основе образа Макса Фрая лежит прием карнавализации, который травестирует и деконструирует привычное понимание функций автора.
Деконструкция лежит в основе всего творчества Макса Фрая. Несмотря на
78 Вестник Российского нового университета
78 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
формальные признаки классического фэнтезийного произведения, Мартынчик указывала на ошибку в подобной интерпретации: «В худшем случае, я эту самую “fantasy” весьма злобно пародирую; в лучшем – разрушаю жанр изнутри. Довольно успешно, как мне кажется»1.
Деконструкция – это «не критика, не анализ и не метод, но художественная транскрипция философии на основе данных гуманитарных наук, искусства и эстетики, метафорическая этимология философских понятий: своего рода структурный психоанализ философского языка, симультанная деструкция и реконструкция, разборка и сборка»2.
В творчестве авторов главный элемент – это образ Макса Фрая, в основе него лежит непосредственно принцип деконструкции, поскольку его нет в действительности. Это касается образа не только автора, но и главного героя цикла. Есть ряд доказательств, которые указывают на несуществование сэра Макса. Так, они даются в первой повести «Дебют Ехо». Если рассматривать все повествование как единый миф о главном герое, то можно отметить следующую цитату: «Это – миф, сэр Макс. То, чего нет» [11, с. 19], произнесенную сэром Джуффином Халли, персонажем повестей, который привел Макса в мир Ехо. И если в начале приключений Тайного сыскного агентства – места работы главного героя – эта фраза не производит должного впечатления, то в конце она приобретает символический характер. «Лабиринт Мёнина» – последний том первого цикла «Лабиринты Ехо». Интерес представляет уже такой рамочный компонент, как заголовок. Лабиринт – образ-метафора постмодернизма: «Согласно Борхесу, такое «книгохранилище» – это Л., или Система, архитектоника которой обусловливается собственными правилами – законами предопределения, высшего порядка, провидения» [12, c. 402]. Одновременно с этим Умберто Эко развивает данную идею в романе «Имя розы», когда вставляет эпизод с горящей библиотекой, тем самым создавая «метафору метафоры». Перекликаясь с изначальным античным образом Лабиринта Минотавра, где любой выбор приводит зашедших к чудовищу, лабиринт является загадкой, которую в теории Эко невозможно постичь изнутри – как это делает Тесей и убивает Минотавра, – но извне. Тем самым лабиринт предстает в форме ризомы, корневища, имея бесконечное, пересекающееся друг с другом количество ответвлений, где «каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична» [13, с. 11].
Мартынчик знакома с творчеством Борхеса, более того, в части «2 х 2 = 4 цикла» «Книги для таких, как я» Макс Фрай даже полемизирует с его точкой зрения на литературу по поводу типичных сюжетов. Сам публицистический труд представляет собой сборник разных, не связанных между собой текстов, которые были созданы в разное время. Таким образом, можно предположить, что автору «Лабиринтов Ехо» не чуждо восприятие именно постмодернистской литературной традиции.
Позиция концепированного автора (на примере серии фантастических повестей «Лабиринты Ехо»)
Мёнин – корейский титул в азиатской игре «го», переводится как «мудрый». Японская игра «и-го», она же китайская «вэйци» и корейская «падук» – логическая настольная игра. Так, название «Лабиринт Мёнина» можно трактовать как «лабиринт мудрого».
По сюжету читатель видит, что существует лабиринт, созданный легендарным королём Мёнином, который представляет собой обрывки разных миров. Главному герою необходимо отыскать пропавшего короля Гурига VIII. Таинственный Мёнин действительно появляется в произведении, рассказывая сэру Максу о своем предназначении. Весь мир фэнтезийного цикла существует благодаря Вершителю, который, в свою очередь, является могущественным магом, чьё волшебство питает жизнь. Следующим Вершителем должен стать сэр Макс – его для этого придумали.
С. Мартынчик так объясняла подобный сюжетный поворот: «Ну и, кроме всего, у меня с самого начала была такая маниакальная вполне идея: чтобы центральный персонаж в финале узнал, что его выдумали. Мне это казалось забавным: человек, достигший головокружительных вершин карьеры фэнтезийного персонажа, вдруг узнает, что его удачливость, могущество и прочие достоинства – следствие того, что он – выдуманный персонаж. Что только у них, у выдуманных, так просто все бывает. Мне было неизвестно тогда, сможет ли выжить эта замечательная личность после такой деконструкции. Время показало, что Макс не только выжил, деконструкция явно пошла ему на пользу»1.
Сэр Макс, узнав о своём положении, начинает создавать новые города в пределах Соединённого Королевства по тому же принципу, по которому создали его. Так он продолжает свои приключения в следующих циклах – «Мой Рагнарёк», «Хроники Ехо» и «Сновидения Ехо».
Возвращаясь к теории Умберто Эко, а также сопоставляя с данной идей, можно допустить, что герой смог разрешить «лабиринт» извне с помощью выхода за привычные рамки подобно трикстеру.
Это позволяет интерпретировать заглавие первого цикла «Лабиринты Ехо» иначе – теперь это не только загадки внутри столицы Соединённого Королевства, но и сама форма построения вторичного мира.
Таким образом, творчество Макса Фрая можно определить как пример метапрозы.
Метапроза – это литературное произведение, важнейшим предметом которого является сам процесс его разворачивания, исследование природы литературного текста [14, p. 15]. Особенностью метапрозы является образ персонажа-писателя, который обычно является двойником автора. Его присутствие позволяет выстроить структуру произведения как «текст в тексте» через комментарии [15, с. 45].
Это позволяет рассматривать миф о Максе Фрае как текст в теории постмодернизма. Можно сделать такой вывод, поскольку способность главного героя создавать новые миры по своей воле внутри вторичного мира можно связать с концепцией «мир как текст». То есть текст, который представляет собой систему знаков, возникает «в развертывании и во взаимодействии разнородных семиотических пространств и структур» [16, с. 355]. По мнению Жака Деррида, «текст олицетворяет собой не знаки, а смыслы и значения, которые могут восприниматься читателем
Вестник Российского нового университета
Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
по-разному в зависимости от его психоаналитического склада ума. Тем самым становится верным утверждение о том, что произведение становится текстом только в процессе чтения и интерпретации. Так можно говорить о появлении «второй реальности», в которой отражается представление людей о действительности, зачастую имеющее свои привнесения и отличающееся от замысла автора» [17, с. 74].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сам Макс Фрай – это текст, собранный из различных авторских идей и читательских рецепций:
«Есть Макс Фрай – писатель. Во всяком случае, его имя значится на обложках длин-ного-предлинного ряда книг, которые если далеко не все читали, то в 1990-е наверняка почти все видели, хотя бы в метро в руках у других. Кроме того, он же автор “Арт-Аз-буки” – словаря современного искусства, “Идеального романа” – произведения, составленного из последних абзацев разных книг.
Есть сэр Макс – герой многих книг из этого ряда.
Есть Макс Фрай – критик и обозреватель.
Есть Макс Фрай – читатель, но не профессиональный, как в предыдущей своей ипостаси, а влюбленный и восхищенный, готовый делиться с другими своим восторгом и вызвавшими его произведениями. Он же составитель антологий, сборников современной короткой прозы.
И все-таки: нет Макса Фрая, и имя-то обозначает “без Макса”, как уже много раз говорилось» [18].
Все это позволяет сделать вывод о том, что Макс Фрай является концепированным автором – сознанием, «которое опосредовано художественной целостностью, представлено в сложных преломлениях через другие сознания и системах их взаимодействия между собой» [19, с. 75]. Скрытое за массовыми клише фэнтезийного канона, это сознание моделирует новую реальность, основой которой является постмодернистская игра.