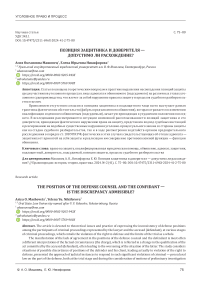Позиция защитника и доверителя - допустимо ли расхождение?
Автор: Машовец А.О., Никифорова Е.Ю.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 2 (41), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теоретическим вопросам и практике выражения несовпадения позиций защиты среди участников уголовного процесса в лице адвоката и обвиняемого (подсудимого) на различных этапах уголовного судопроизводства, что влечет за собой нарушение права на защиту и пределов судебного разбирательства в целом. Проявлением отсутствия согласия в позициях защитника и подзащитного чаще всего выступает разная трактовка фактических обстоятельств (фабулы предъявленного обвинения), которая отражается в изменении квалификации содеянного обвиняемым (подсудимым), зачастую приводящая к ухудшению положения последнего. В исследовании рассматриваются ситуации возможной рассогласованности позиций защитника и его доверителя, приводящие фактически к нарушению права на защиту, представлен подход судебных инстанций к реагированию на подобные существенные нарушения уголовно-процессуального закона со стороны защиты как на стадии судебного разбирательства, так и в ходе рассмотрения ходатайств органов предварительного расследования в порядке ст. 108 УПК РФ, фактически в этих случаях свидетельствующих об отказе адвоката - защитника от принятой на себя защиты и реализации им совершенно противоположной функции - функции обвинения.
Право на защиту, квалифицированная юридическая помощь, обвинение, адвокат, защитник, подзащитный, доверитель, подсудимый, позиция защиты, пределы судебного разбирательства
Короткий адрес: https://sciup.org/14130309
IDR: 14130309 | УДК: 343.1 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-41-2-75-80
Текст научной статьи Позиция защитника и доверителя - допустимо ли расхождение?
Развитие России как правового государства предопределяет значимость вопросов обеспечения защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Решение данных задач является приоритетом в деятельности органов уголовного судопроизводства.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве институт защиты прав подозреваемых и обвиняемых является одним из основных процессуальных институтов, свидетельством законности уголовного преследования и фактической реализации принципа состязательности процесса.
Адвокат-защитник, реализуя право на защиту обвиняемого (подсудимого), руководствуясь нормами уголовно-процессуального законодательства, Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-ции»1 (далее — закон № 63-ФЗ), положениями Кодекса профессиональной этики адвоката2, обязан определять свою правовую позицию, принимать процессуально значимые решения в интересах защиты законных интересов и прав подзащитного, формировать единую с ним стратегию и тактику защиты от предъявленного обвинения.
Несогласованность позиции защитника и подзащитного, являясь одним из проявлений нарушения права на защиту, влечет безусловную отмену приговора. Коллизии согласования правовой позиции адвоката и доверителя следует рассматривать в тесной связи с пределами судебного разбирательства, допускающими изменение обвинения в судебном разбирательстве только в сторону смягчения положения подсудимого.
Материалы и методы исследования
В статье использовались материалы практики судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда, районных судов г. Екатеринбурга, а также опубликованная судебная практика кассационных судов общей юрисдикции за 2020–2024 гг.
Основу исследования составили общенаучные и частно научные методы познания, принятые в юриспруденции, такие, как метод системного анализа теоретических и нормативно правовых источников, формально-логический.
Обсуждение
В теории уголовного процесса господствует позиция о недопустимости адвокату занимать по уголовному делу позицию, противоречащую позиции своего подзащитного, а предусмотренные действующим законодательством случаи отступления от этого достаточно жесткого правила носят исключительный характер, продиктованные интересами прежде всего подзащитного и необходимостью обеспечения права на защиту.
Самооговор, как «предоставление лицом ложной информации о совершении им самим преступления» [1, с. 142], позволяет адвокату, убежденному в самооговоре, действовать вопреки воле подзащитного, отстаивая его невиновность. «Отступление от принципиального запрета расхождения позиции адвоката с позицией его доверителя происходит в исключительном случае, когда это требуется в связи с угрожающей доверителю уголовной ответственностью и, следовательно, объясняется обеспечением его права на защиту. Иные изъятия действующим регулированием не предполагаются» [2, с. 12].
Совпадение позиции адвоката и доверителя презюмируется в ситуации, предусмотренной п. 3 ч. 2 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), когда о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого.
Конституционный Суд Российской Федерации в свое время высказал позицию о праве адвоката «дать соответствующие показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. Данная норма3 также не служит для адвоката препятствием в реализации права выступить свидетелем по делу при условии изменения впоследствии его правового статуса и соблюдения прав и законных интересов лиц, доверивших ему информацию»4. Очередным импульсом продолжения дискуссии о возможности допроса адвоката послужило Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2023
№ 3347-О, в котором Суд подчеркнул, что «статья 56 УПК Российской Федерации не исключает право адвоката дать соответствующие показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений»1.
При этом обращено внимание на определенного рода обстоятельства и сведения, не относящиеся к адвокатской тайне, исходя из того, что они стали известны адвокату «не в силу того, что они были ему доверены или стали ему известны исходя из его профессиональной деятельности или в связи с нею, а ввиду того, что он стал очевидцем определенных событий, когда участвовал в производстве следственных действий, обеспечивая защиту прав и законных интересов от возможных нарушений уголовно-процессуального закона со стороны органов дознания и предварительного следствия»2.
Допрос адвоката — очевидца событий — не только исключает адвоката из производства по уголовному делу в качестве защитника, но позволяет провести допрос при отсутствии согласия подзащитного, интересы которого не всегда заключаются в уточнении порядка производства тех или иных следственных и процессуальных действий и в отводе его защитника, приобретшего статус свидетеля.
Можно отметить еще один — криминальный случай расхождения позиции адвоката и подзащитного: соучастие адвоката в совершении преступления, что явно выходит за рамки оказания юридической помощи. Возможна пограничная ситуация, когда адвокату стало известно о предполагаемых преступных действиях подзащитного не в связи с принятой на себя защитой по уголовному делу, а «за пределами того уголовного дела, по которому доверитель в качестве подозреваемого, обвиняемого получает юридическую помощь адвоката»3. Ограничение рамок адвокатской тайны лишь теми сведениями, которые стали известны адвокату в связи с оказанием юридической помощи, ставит вопросы о рамках и пределах ее оказания и, как следствие, об относительности адвокатской тайны.
Недопустимость противоречия позиции адвоката интересам доверителя запрещает адвокату делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает (п. 4 ст. 6 Закона № 63-ФЗ).
Теоретический анализ и вопросы практической реализации недопустимости признания адвокатом вины подзащитного при ее отрицании последним (полностью либо частично) требуют обращения к пределам судебного разбирательства и отчасти к правилу non bis in idem .
Обвинение как утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, не является константой и предполагает возможность его изменения как в досудебном производстве, так и в стадии судебного разбирательства.
Положения ст. 252 УПК РФ, запрещающие изменение обвинения в судебном разбирательстве при ухудшении положения подсудимого и нарушении его права на защиту, конкретизированы судебной практикой. В частности, Верховный Суд Российской Федерации допускает изменение обвинения и квалификацию действия (бездействие) подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту4.
Допустимость изменения обвинения в судебном разбирательстве в сторону смягчения, улучшения положения подсудимого теорией и практикой уголовного процесса не отрицается. Критерии «неухудшения» положения подсудимого обратны критериям поворота к худшему, однако универсального правила переквалификации деяния подсудимого при соблюдении требования о недопустимости нарушения права на защиту уголовно-процессуальная теория не выработала. Если в отношении материального критерия пределов судебного разбирательства — понятия более тяжкого обвинения и существенности отличий обвинения от первоначального по фактическим обстоятельствам, возможна ориентация на апробированную судебную практику, то применительно к процессуальному критерию пределов судебного разбирательства — недопустимости нарушения права на защиту — прослеживается тенденция на расширительное толкование судами нарушения права на защиту вследствие ненадлежащей позиции адвоката при разрешении судом уголовного дела.
Несмотря на то, что адвокат не является субъектом, формулирующим обвинение, определяющим его объем, его позиция в ходе судебного разбирательства, основанная на фактических обстоятельствах уголовного дела и исследованных судом доказательствах, находит выражение в правовой оценке обвинения, предъявленного подзащитному.
Исходя из того, что «в юридической литературе обычно выделяют три составные части обвинения: фабулу обвинения, его юридическую формулировку и правовую квалификацию» [4, с. 123], несогласованность позиции адвоката и подзащитного могут касаться доказанности фактических обстоятельств уголовного дела (фабулы обвинения), формулировки обвинения (уголовно-правовых признаков конкретного вида преступления), квалификации преступления, определяемой как «установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовноправовой нормой» [5, с. 5].
Интерпретация адвокатом вопреки позиции подзащитного «фактических обстоятельств, выражающих признаки конкретного состава преступления» [3, с. 37], установленных судом в ходе судебного следствия, признается судебной практикой нарушением права на защиту, влекущим отмену состоявшихся судебных решений.
Так, предложенная защитником переквалификация действий подсудимого с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть) при отрицании подсудимым наличия умысла на причинение смерти потерпевшей и причин ее смерти (при признании фактов нанесения ударов, вследствие которых, по заключению экспертов, наступила смерть потерпевшей), было признано судом нарушением права подсудимого на защиту, влекущим отмену или изменение судебного решения1.
Действиями вопреки интересам своего подзащитного признано судом мнение защитника о необходимости квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Подсудимый в ходе судебного следствия и судебных прений настаивал на необоснованном предъявлении ему обвинения по ч. 1 ст. 111 УК РФ, а в последующем по ч. 4 ст. 111 УК РФ, нанесение ударов потерпевшему не отрицал, но считал, что в результате его ударов не могли быть причинены повреждения, квалифицируемые по ч. 1 ст. 111 УК РФ2.
Безусловным нарушением уголовно-процессуального закона, предусмотренным п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ (несовпадение позиций адвоката и интересов подзащитного), неустранимым в суде апелляционной инстанции, поскольку нарушена процедура судопроизводства в целом, ибо право на защиту не может быть реализовано в части, признана позиция адвоката. Защитник, выступая в прениях, вопреки позиции подзащитного, ссылалась на полное признание последним своей вины в совершении преступлений, отсутствие оснований для оспаривания квалификации действий подсудимого и высказалась только относительно назначения наказания. Между тем согласно протоколу судебного разбирательства, подсудимый от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался, были оглашены и подтверждены подсудимым его показания, данные на предварительном следствии, в которых он выразил несогласие с предъявленным обвинением.
Суд апелляционной инстанции указал, что «адвокат фактически отказалась от принятой на себя защиты, связанной с представлением интересов подсудимого в судебном заседании, лишив его права на эффективную защиту»3.
Сложившаяся практика весьма любопытна — суды делают вывод о нарушении права на защиту, сопоставляя позицию адвоката в суде с оглашенными в силу п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного следствия.
Иная юридическая оценка действий подсудимого и изменение квалификации деяния , с которой также может быть связано рассогласованность позиций адвоката и доверителя, вытекает, как правило, из иной (подлежащей согласованию) трактовки фактических обстоятельств совершенного деяния и/или изменения формулировки обвинения. Статус адвоката как независимого профессионального советника, определенный законодательством, позволяет ему определить по итогам судебного следствия квалификацию деяния, наиболее благоприятную для подсудимого и соответствующую тактике защиты. Отмечаемая в ряде случаев, по выражению З. В. Макаровой «абсурдность» [6, с. 76] позиции доверителя применительно к правовым вопросам, неправильная оценка юридической составляющей деяния, не совпадающая с позицией защитника, приводит к коллизионным моментам позиционной защиты и ставит под вопрос обеспечение права на защиту подсудимого. Отмечено, что «в таких ситуациях адвокат лишается возможности обратить внимание суда на другие возможные варианты разрешения уголовного дела по существу, что приводит к негативным последствиям» [7, с. 106].
Суд признал несоблюдение права обвиняемого на защиту в позиции адвоката, указавшего, несмотря на просьбу подсудимого об оправдании по предъявленному обвинению, на противоправность его действий, требующих иной, чем дана органом следствия, юридической оценки. Выступая в судебных прениях, адвокат вопреки позиции подзащитного, признал отсутствие в действиях подсудимого состава покушения на грабёж, и, приведя собственный анализ произошедших событий и судебной практики, пришёл к выводу о наличии в действиях подсудимого состава административного правонарушения либо, как максимум, преступления против личности1.
Иные изменения обвинения . Обвинение кроме элементов, имеющих значение для юридической квалификации деяния подсудимого, включает иные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Как возложение на себя обвинительной функции трактуется ситуация совпадения позиций адвоката и обвиняемого, если адвокат не приводит доводы, направленные на улучшение его положения, возможности избрания иной меры пресечения, изменения вида исправительного учреждения и иных обстоятельств применительно к избираемым мерам процессуального принуждения и наказания.
Эти ситуации, диаметрально противоположные анализируемым случаям несогласованности позиций адвоката и доверителя, в судебной практике расцениваются как фактическое выполнение защитником функции обвинения.
Судом в ходе судебного разбирательства было указано на не приведение адвокатам доводов, направленных на улучшение положения обвиняемого (обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ) при разрешении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста. Обвиняемый выразил согласие с ходатайством следователя о продлении срока домашнего ареста, защитник поддержал позицию подзащитного. После замечания судьи защитнику пришлось выйти за рамки позиции обвиняемого, без согласования с последним, и выразить в прениях просьбу о замене домашнего ареста более мягкой мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или о запрете определенных действий. Суд при этом удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому срок домашнего ареста2.
Лишение права на эффективную защиту — вывод суда при согласии адвоката с позицией государственного обвинителя при назначении осужденному вида исправительного учреждения. Адвокат, поддержав апелляционное представление государственного обвинителя о необходимости назначения осужденному для отбывания наказания вида исправительного учреждения, не приведя каких-либо доводов, направленных на улучшение положения осужденного (в приговоре не был указан вид исправительного учреждения), фактически выполнила функцию представителя стороны обвинения и заняла позицию, противоречащую интересам подзащитного3.
Заключение и выводы
Качество оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом-защитником во многом определяется согласованностью позиции защиты. Своеобразным ориентиром в этом выступает положение пп. 3, 4 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о том, что адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле заявителя, делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает.
В уголовном судопроизводстве недопустимо как выражение позиции вопреки воле подзащитного, так и оставление разрешения процессуально значимого вопроса на усмотрение суда, поскольку в этом случае также прослеживается несовпадение позиций между адвокатом защитником и обвиняемым (подсудимым). В силу п. 18 постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», суд, являясь гарантом обеспечения права обвиняемого на защиту, должен выяснить, была ли позиция защитника согласована с обвиняемым (подсудимым), и в случае обнаружения несовпадения возобновить судебное следствие, в том числе и на этапе прений4. Возможен вывод о нарушении права на защиту при сопоставлении позиции адвоката, высказанной в суде, с оглашенными в силу п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимого, полученными в ходе предварительного следствия.
В последнее время в правоприменительной практике все чаще стали встречаться ситуации, когда судьи обращают внимание на недопустимость выполнения адвокатом защитником функции представителя стороны обвинения. Позиция адвоката признается нарушением конституционного права обвиняемого на защиту и противоречащей интересам подзащитного, когда адвокат, несмотря на совпадение позиции с подзащитным, не просит суд о смягчении, не приводит каких либо доводов об улучшении положения подзащитного.
Список литературы Позиция защитника и доверителя - допустимо ли расхождение?
- Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": научно-практический комментарий (постатейный) / под ред. А. В. Гриненко. Москва: Проспект, 2018. 295 с.
- Морозов А. В. Стандарты обеспечения адвокатской тайны // Адвокатская практика. 2020. № 2. С 10-15. EDN: ANYTJZ
- Епихин А. Ю., Тарханов И. А. Изменение обвинения и квалификации преступления в судебном производстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 122-129.
- Давыдов П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. Свердловск, 1974. 136 с.
- Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2007. 302 с.
- Макарова З. В. Согласованность позиций адвоката и его подзащитного // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2008. № 1. С. 73-78. EDN: MNICSB
- Лебедев Н. Ю., Лебедева Ю. В. "За" и "против" двойственной позиции защитника в уголовном судопроизводстве: позиции, мнения, взгляды // Алтайский юридический вестник. 2018. № 3 (23). С. 105-108. EDN: YLQSVV