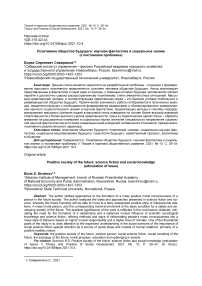Позитивное общество будущего: научная фантастика и социальное знание (к постановке проблемы)
Автор: Сивиринов Борис Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная статья касается недостаточно разработанной проблемы - подходов к формированию массового позитивного нравственного сознания человека общества будущего. Автор анализирует представленные в фантастике и науке идеи и подходы, с помощью которых будущее человечество сможет перейти к достаточно широко распространенному позитивному стилю межличностных отношений. Массовый нравственный человек, и соответствующая нравственная среда - это базовое условие стабильного и развивающегося общества будущего. Практическая значимость работы отображается в полученных выводах, свидетельствующих о необходимости формирования взаимосвязи и сбалансированного взаимовлияния научного социологического знания и научной фантастики, предлагающих методы и способы переформатирования массового сознания людей в массовый стиль поведения на основе более высокой взаимной ответственности и более высокого уровня нравственности. Одна из теоретических целей статьи - обратить внимание на расширенное понимание в социальных науках значения специального направления социальной научной фантастики как источника социальных идей и моделей человеческих отношений, прежде всего, позитивного реалистического характера.
Позитивное общество будущего, позитивный человек, социальная научная фантастика, социальное моделирование будущего, социология будущего, нравственный прогресс, воспитание в обществе
Короткий адрес: https://sciup.org/149138650
IDR: 149138650 | УДК: 316.42/.43 | DOI: 10.24158/tipor.2021.10.4
Текст научной статьи Позитивное общество будущего: научная фантастика и социальное знание (к постановке проблемы)
В современном мире существует и остро ощущается недостаток позитивных идей и образов будущего. Будущее определено не линейными зависимостями причин и следствий, а совокупностью или полем различных детерминант и тенденций. Существующие современные тенденции развития техники и компьютерных технологий только в рамках линейного подхода позволяют экстраполировать их лишь большее и усовершенствованное развитие. Но это прогноз только технического развития. Технический прогресс - это еще не прогресс общественных отношений. Прогресс общественных отношений безусловно связан с техническим прогрессом, но технический прогресс практически не связан напрямую с улучшением человеческих отношений. Вполне очевидно, что появление новой техники, особенно военной, не способствует прогрессу общественных отношений. Кинематографический опыт «Звездных войн», и других фантастических фильмов о будущем, визуально-логически доказывает диссонанс сюжетов со старыми конфликтными морально-нравственными характеристиками людей и ушедших далеко вперед технологий. В современной фантастической литературе наблюдается то же самое. Такой путь в будущее, на наш взгляд, не исключен. Если не влиять специально на характер межчеловеческих отношений, то они будут, как и в прошлом историческом опыте, воспроизводиться в любой форме имевших место исторических формаций, но на фоне новейшей и «прогрессивной» техники, ибо не будут меняться психология и нравственно-этические характеристики людей. Таким образом, только технологически развитое будущее в художественном дискурсе в сущности – не будущее, а экстраполяция социального прошлого и настоящего на фоне новой техники.
Многие воспринимают это как неизменную данность, которая, если вдуматься, ведет общество в тупик самоуничтожения. Позитивное будущее общественных отношений на сегодняшний момент фактически исключается из научного и научно-фантастического дискурса. При этом недооцениваются возможности социальной научной фантастики и даже научно-прогностической публицистики. Ведь они могут представлять собой своеобразные лаборатории мысли (может быть, в формате Think Tanks), предоставляющие редкую возможность смоделировать не утопические, а достаточно реалистичные, пусть не абсолютные, но в своем позитиве живые человеческие отношения в будущем. Будучи беллетристикой, научная фантастика, как и научное прогнозирование, использует методы экстраполяции и социального моделирования будущего. Художественная свобода мысли, не скованная научными традициями и стереотипами, позволяет представлять новые идеи и конструкции будущего общества в форме мысленного социального эксперимента. Прав Джон Хантингтон, считающий, что «с самого начала современной научной фантастики, энтузиасты, очевидно неудовлетворенные просто популярностью ее формы и чувствуя, что на определенном уровне она не просто доставляет удовольствие, утверждают, что научная фантастика обеспечивает важную образовательную задачу: вовлекая нас в процесс представления о непознанном, (как они утверждают) научная фантастика подготавливает нас к будущему» [1, р. 345]. Более того, некоторые авторы считают, что научно-фантастическая литература в своей прогностической функции использует «художественные средства и возможности, дублировать которые не может никакой другой вид литературы» [2, с. 53].
Если во времена Советского Союза была позитивная и в то же время утопическая идея коммунизма, отраженная в фантастической и философской литературе, то сейчас во всем мире практически нет желаемой, относительно реалистичной позитивной картины будущего, общественных отношений в науке и даже в фантастике. Станислав Лем довольно жестко отозвался о причинах такого положения и в социальной науке, и в научной фантастике: «Здесь действует также и инертность ума, нежелание предпринимать смелые поиски, паралич социологической ориентированности воображения, порождающие в сумме моду считать будущее чистейшим кошмаром, лишенным нечудовищных примесей» [3, с. 492].
Будущее капитализма вообще теряется в тумане противоречивых литературных экзерсисов, научных и околонаучных публицистик, например, в рамках («новой»?) методики форсайта, увлечение которым напоминает ситуацию спекуляций на синергетике, а нескрываемая пропаган-дистcкая задача форсайта наводит на мысль о манипуляции сознанием людей по поводу образа будущего в глобальных масштабах.
Попытки в социальных науках и философии представить будущее общество ограничены прокрустовым ложем техницизма и стереотипами лишенного воображения мышления. Так, один из зарубежных авторов конструирует идеальный тип человека, к которому якобы должно стремиться буржуазное общество: это молодой, умный супер-техницист с прекрасным пониманием машин. Для него характерны рациональность и практицизм, его основная мотивация – власть для богатства, другие люди – инструменты этой власти, а он сам – постиндустриальный, аналитический технократ [4]. Но чем же он отличается от современного нормативного буржуазного человека? Признавая, что будущее все-таки должно отличатся от настоящего, автор считает, что будущее «устраняет» буржуазного человека и корректирует представленный выше идеальный тип человека. Теперь этот человек, при всех уже указанных качествах, менее одержим властью и экономическими интересами, но при продолжении сохранения настоящего строя [5]. Таким образом, мы видим, что при всех противоречиях дискуссий о прогрессе, его содержании и перспективах, предлагаемые учеными пути овладения проблемами будущего «нередко не отличаются и какой-либо принципиальной новизной в преодолении основной апории прогресса» [6, c. 37].
Однако и в социологии, и в научной фантастике редко можно встретить теоретическую или хотя бы вербально-логическую разработку реалистичных моделей более совершенных форм общества, а самое главное, путей и способов достижения широкой распространенности позитивного стиля межчеловеческих отношений. Очевидно, что основой таких отношений должны быть положительные моральные качества людей. Ранее считалось, что основной путь совершенствования общества – это экономический и научно-технический прогресс, которые якобы автоматически приведут к морально-нравственному прогрессу. Но «моральный прогресс – это не то, что уже находится в руках, напротив, общество должно за него энергично бороться» [7, с. 39].
В социологии отсутствуют фундаментальные и конструктивные теоретические исследования стратегии будущего, а особенно реальных и доступных путей формирования массового позитивного человека в будущем среднего предела, т. е. в ближайшие 50–100 лет. Н.В. Романовский справедливо замечает, что международная и национальная социология демонстрируют интерес к будущему «лишь в ограниченном смысле» [8, с. 15]. Говорить и писать о будущем стало «не модно», в стране наблюдается «вялая реакция» по поводу будущего [9, c. 19]. Ю.Г. Волков констатирует «футуробоязнь» академического сообщества и реальной управленческой практики. Но все равно в стране должны быть те, «кому хотя бы по долгу службы полагается дальновидность» [10, c. 20].
Разумеется, в современной России можно встретить энтузиастов, для которых социальное будущее не столько утопический образ, сколько модель, которая должна быть, как писал М. Вар-тофски, «путеводителем действия», «призывом к действию» [11, c. 124, 126.]. В этой связи уместно отметить Ю.Г. Волкова и его книгу «Социология будущего: социологическое знание и социальный проект». Ю.Г. Волков в своей книге не представляет какие-либо модели будущего, но придает особое значение социологии как науке о будущем, которая не только призвана изучать общество, но и связана «с социальной мобилизацией и социальной ориентацией общества», на основе которой можно предвидеть «сферу будущего» [12, с. 46].
Относительно существующего социально-научного анализа моделей будущего уместно упомянуть книгу И.Д. Тузовского с многообещающим, но исподволь ироничным названием «Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий» [13], которая, как видим, посвящена преимущественно социальному анализу антиутопий, «научной и художественно-творческой рефлексии будущего развития человечества». Поэтому объект анализа – отнюдь не позитивный взгляд самих зарубежных писателей и футурологов – предопределил преобладающий «антиутопичный» дух несомненно интересной книги.
Что касается современной социальной фантастики, то в ней почти исчезли романы о лучшем будущем. Будущее в современной зарубежной и отечественной фантастике – это экстраполяция старых, конфликтных и жестоких общественных отношений в новый мир технологического будущего с фантастической техникой и космической тематикой. Например, жанровый список с сайта с рейтингом книг фактически не содержит сюжетов о позитивных общественных отношениях в будущем: «про постапокалипсис; про метро 2033; про зомби; про будущее; фанта стика про сверхспособности; про искусственный интеллект; про иных; про мутантов; про попа- данцев; про пришельцев; про апокалипсис; про антиутопию; про сталкеров; про звездные войны; про алхимию; про супергероев; про боевую фантастику; про чужих; про зомби апокалипсис; про машину времени» [14]. Многие произведения демонстрируют «нулевую» познавательно художественную ценность [15, с. 128].
Научно-фантастический подход к моделированию будущего следует выделить особо, так как он представляет собой научно-художественное осмысление будущего, основанное на сведениях и данных различных наук. Здесь писатель-фантаст нередко использует данные социологии, психологии, истории и различных естественных наук. Известный исследователь научной фантастики А.Ф. Бритиков подчеркивал, что, развиваясь более ста лет, фантастика сформировала довольно совершенный инструмент предвидения [16, c. 12]. Научная фантастика именно в СССР старалась моделировать как внутренний мир будущего человека, так и сами человеческие отношения.
Способность моделирования возможных состояний будущего общества присуща социальной фантастике. В этой функции в своих лучших образцах она поднимается на уровень научного и в то же время фантастического прогноза и анализа будущего общества. Станислав Лем довольно лестно для социологов отозвался о социологии, «превращенной литературной фантазией в свою высшую стадию – теорию строения и регулирования обществ… Для гармонической регу- лировки человечества мало иметь теорию, специалистов и инструменты, надо еще найти крупный “пласт” общества, достаточно действенный и сильный, чтобы сделать это» [17, с. 494]. Отдельные научно-фантастические произведения благодаря талантливому социальному мышлению авторов могут претендовать на научность прогноза будущего. Например, русский писатель, ученый и политик А. Богданов в романе «Красная звезда», изданном еще в 1908 году, писал о космических кораблях с ядерными реакторами, цветном стереоскопическом телевидении, вычислительных машинах, синтетических тканях и т. д. В своей фантастике А. Богданов, будучи политиком и ученым, описывал более совершенное общество, стремясь учитывать закономерности научного предвидения.
В отечественной фантастике фактически прекратилась традиция представления позитивного будущего, заложенная Иваном Ефремовым («Туманность Андромеды»), Станиславом Лемом («Магелланово облако»), Аркадием и Борисом Стругацкими (особенно их «Полдень ХХII век» и «Далекая радуга»). Аркадий и Борис Стругацкие, наверное, одни из первых попытались представить позитивное будущее общества, наиболее приближенное к реальности, без утопических, «ходульных» образов населяющих его людей. Импонирует то, что писатели, исходя из реалистических позиций, предпочли населить мир ХХII века «людьми, которые существуют реально сейчас». Это лучшие люди современного общества с лучшими личностными качествами. Но Стругацкие отмечают, что таких людей пока мало. В будущем обществе их должно быть «абсолютное большинство» [18, с. 2].
Следует заметить, что указанные произведения И. Ефремова, С. Лема и Стругацких – это не совсем экстраполяционная фантастика. Экстраполяция современных тенденций в массовых общественных отношениях пока не позволяет рассчитывать на позитив будущего. Будущее общество в «Туманности Андромеды», «Полдень XXII век» – это не прогноз, а воображаемая желательная модель общества и межчеловеческих отношений, которая не лишена преемственности прошлого и будущего. В данных произведениях осуществляется попытка на художественнонаучной основе (И. Ефремов – историк-палеонтолог, Стругацкие – ученые-специалисты) не только смоделировать позитивный результат общественного развития, но и наметить достаточно реалистичный, конструктивный способ достижения этого результата.
Сейчас же, к сожалению, в многочисленных научных и литературных публикациях так и не дается сколько-нибудь логически вытекающая из детерминистски обозначенных существующих позитивных потенциалов человека картина массовых будущих человеческих отношений. Чаще всего речь идет об общих принципах, которые якобы должны проявить себя в процессе взаимодействия общества и человека: «общество должно соответствовать размерности человека» [19, c. 54], но «размерность» человека уже сейчас содержит в ее актуальности как позитив, так и негатив, и общество соответствует этой актуальной «размерности» или «человеческому измерению». Проблема же состоит в том, чтобы найти пути к усилению позитивного в противоречивой «размерности» человека. Э. Тоффлер пишет, что, изменяя «глубинные» структуры общества, можно изменить людей. [20, с. 601] Похожую позицию занимали марксисты. Они тоже считали, что, изменяя коренным образом общество, автоматически можно изменить человека. Но практика показала, что сами изменения общества существенно зависят от характеристик человека. Кстати, сам Э. Тоффлер признает, что, «сформировавшись однажды», черты характера человека влияют на экономическое и социальное развитие общества [21, с. 602–603]. Еще до выхода книги Э. Тоффлера И. Ефремов в научно-фантастическом романе «Туманности Андромеды» высказал мысль, что развивать экономику «было невозможно без воспитания общественного сознания каждого человека» [22, с. 39].
Таким образом, будущее позитивное общество возможно при сбалансированном взаимовлиянии как со стороны позитивного человека, так и со стороны позитивного общества. Причем положительные человеческие качества имеют первичный характер, будучи базовым условием улучшения общества.
Что же необходимо делать, чтобы преодолеть экстраполяционную неизбежность кризиса общества? Простая логика процессов и механизмов социализации подсказывает единственный доступный путь, связанный с воспитанием и образованием. Задолго до выхода книг Э.Тоф-флера И.Ефремов и Стругацкие показали убедительно зримую картину общества, где воспитанные качества взаимной порядочности и честности в человеческих отношениях создают благоприятную атмосферу во всех сферах общества.
Социальная фантастика И. Ефремова показывает общество и живущих в нем людей в весьма отдаленном будущем – спустя 3 000 лет. Это люди, не «тронутые» научно-техническим прогрессом и чипированными, запрограммированными мозгами, находясь в среде высокоразвитой техники будущего, они сохраняют естественные базовые позитивные черты личности и человеческого достоинства. Не кто иной, как учителя, ученые, педагоги воспроизводят личности будущего общества – воспитывают людей творческих, развитых физически, умственно и духовно. В основе воспитания лежит строгая общественная дисциплина, рационализм, отсутствие взаимной вражды, лжи, разумное самоограничение желаний и потребностей. Свобода личности сочетается с чувством ответственности.
-
Э. Тоффлер вроде бы тоже выступал за воспитание детей и образование как условие лучшего будущего [23, c. 604–606], но он не рассчитывал на значительную ступень позитивного человека и предлагал «не лучший и не худший из возможных миров».
Представляет интерес позиция академика и писателя-фантаста Ивана Ефремова. Он еще тогда, в Советском Союзе, в своих произведениях обозначил путевые векторы и методы улучшения общества. Люди будущего смогли добиться позитивного результата в развитии общества, когда «поставили учителей и врачей выше всех других профессий (выделено автором – Б.С.) на Земле» [24, c. 188–189]. Чрезвычайно высок статус учителя и в произведении Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень ХХII век», где описывается, как подростки «самозабвенно глядели на учителя и восторгались. Этот человек казался им великим и простым, как мир» [25, c. 67].
В романе Сергея Лукьяненко «Звезды – холодные игрушки» представлены элементы не совсем совершенной, но более или менее положительной общественной утопии. В инопланетной человекоподобной цивилизации мы видим мир, где учитель, наставник, говоря словами В.И. Ленина, «поднят на недосягаемую высоту», но настолько, что в своем абсолюте «стал высшим мерилом справедливости», крайностью, которая с утратой меры ставит учителя, наставника почти вне критики со стороны общества [26, c. 360]. Общество с такими наставниками не столько воспитывает, сколько манипулирует людьми.
С научной точки зрения, начальные этапы достижения позитивного будущего вполне доступны ныне существующим методам и технологиям воспитания и социализации в системах образования. Только в решении этой непростой задачи необходимо избегать упрощенного и поверхностного отношения, которое имело место в Советском Союзе. Главным обязательным условием формирования позитивной личности являются: высокий общественный статус и позитивные человеческие качества учителя и преподавателя, их квалификация педагога-воспитателя, а также родителей как субъектов воспитания. Нет никакого сомнения, что в представленных фантастических романах учитель, наставник – это педагоги-специалисты высочайшей квалификации. Это не нынешние выпускники педагогических университетов, которые, в лучшем случае хорошие предметники, но в большинстве своем не педагоги-воспитатели высокого класса.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что научная фантастика, будучи определенным аналогом метода социального моделирования и прогнозирования, использует методы экстраполяции и функционального прогноза. Социальная научная фантастика является специфическим источником новых идей для социального анализа и социального конструирования в социологии и других общественных науках. Автор полагает, что социальная научная фантастика – это профильная литература для всех социологов. Она позволяет часто избавиться от стереотипного мышления в рамках застоявшихся научных парадигм. Станислав Лем замечал, что иногда даже убогие в литературно-художественном отношении произведения содержат интереснейшие и конструктивные идеи. Но, разумеется, «пользоваться» фантастикой нужно всегда с высоты глубоких научно-социальных знаний. В противном случае есть опасность примитивного перенесения фантастических моделей в науку и ее дискредитации.
Расширенное понимание в социальных науках значения специального направления социальной научной фантастики как источника социальных идей и позитивных моделей человеческих отношений в будущем позволит создать научный и ценностный фон для конструктивных разработок и программ совершенствования общества через позитивную трансформацию человека.
В заключение хочется подчеркнуть, что перспективность научного осмысления фантастических моделей будущего позитивного общества связана со спецификой социологии, в которой способность к «социологическому воображению» (Ч. Миллс, П. Штомпка) является необходимым условием развития и функционирования социологии как науки.
Список литературы Позитивное общество будущего: научная фантастика и социальное знание (к постановке проблемы)
- Huntington J. Science Fiction and the Future // College English. Vol. 37, no. 4. P. 345-352. https://doi.org/10.2307/376232.
- Цветков Е.В. Научная фантастика и научное предвидение // Вестник поморского университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2008. № 1. С. 49-54.
- Лем C. Фантастика и футурология. В 2 кн. Кн. 2 М., 2008. 667 с.
- Suvin D. The Sociology of Science Fiction // Science-Fiction Studies. 1977. Vol. 4, № 3. Р. 223-227+318-319.
- Там же.
- Гуторов В.А. О некоторых тенденциях интерпретации концепции прогресса в современной социальной теории // Вопросы философии. 2017. № 12. С. 32-43.
- Там же. С. 39.
- Романовский Н.В. Будущее как проблема современной социологии // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 13-22.
- Там же. С. 19.
- Там же. С. 20.
- Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., 1988. 507 с.
- Волков Ю.Г. Социология будущего: социологическое знание и социальный проект. М., 2017. 178 с.
- Тузовский И.Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий. Челябинск, 2009. 312 с.
- Книги про будущее человечества [Электронный ресурс] // Рейтинги книг по рубрикам. URL: knigukupi.ru/top-pro_bu-dusshee.php (дата обращения 22.09.2021).
- Лем C. Указ. соч. С. 128.
- Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970. 448 с.
- Лем C. Указ. соч. С. 494.
- Стругацкий А., Стругацкий Б. Полдень XXII век. М., 1967. 320 с.
- Перепелкин Л.С. Антропный принцип и формирование человекоразмерного будущего // Вопросы социальной теории. 2015. Т. VIII. Вып. 1-2. С. 51-62.
- Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. 669 с.
- Там же. С. 602-603.
- Ефремов И.А. Сочинения в 3 т. М., 1999. Т. 1: Туманность Андромеды; Звездные корабли; Сердце змеи. 384 с.
- Тоффлер Э. Указ. соч. С. 604-606.
- Ефремов И.А. Час быка. М., 1993. 432 с.
- Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Полдень XXII век. М., 2020. 352 с.
- Лукьяненко С.В. Звезды - холодные игрушки. М., 2004. 381 с.