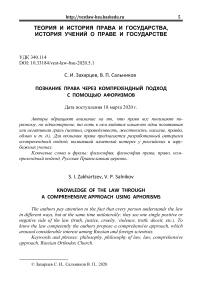Познание права через компрехендный подход с помощью афоризмов
Автор: Захарцев Сергей Иванович, Сальников Виктор Петрович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
Авторы обращают внимание на то, что право все понимают по-разному, но односторонне, то есть в нем видится какая-то одна позитивная или негативная грань (истина, справедливость, жестокость, насилие, правда, обман и т. д.). Для познания права предлагается разработанный авторами компрехендный подход, вызвавший заметный интерес у российских и зарубежных ученых.
Философия, философия права, право, компрехендный подход, русская православная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/142232133
IDR: 142232133 | УДК: 340.114 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2020.5.1
Текст научной статьи Познание права через компрехендный подход с помощью афоризмов
В 2018 г. в издательстве «Юрлитинформ» вышла замечательная книга И.В. Смольковой, в которой собраны высказывания знаменитых людей – писателей, юристов, философов и др., о праве [1].
Прочтение этой книги позволило сделать вывод о том, что до сих пор никто не понял, что такое право, применительно к которому использованы самые разные, в том числе взаимоисключающие понятия. Право называют свободой и насилием, истиной и обманом, правдой и софистикой, идеалом и орудием принуждения и т. д.
Также эта книга заставила задуматься о том, что даже великие философы и известные ученые смотрят на право однобоко. Одни видят в нем свободу, другие – только истину и справедливость, а третьи – насилие, обман, принуждение и т. п.
По различным научным, публицистическим и учебным работам разошлась цитата о том, что нам право представляется большим бриллиантом [2]. Каждый мыслитель, рассматривающий его, акцентирует внимание только на одной из его граней, но судит о праве-бриллианте как о целом. В результате появляются различные концепции понимания права, раскрывающие лишь его отдельные стороны. И пока не наберется достаточное количество таких концепций, общее понятие этого феномена выработано не будет. Не исключено, что мы получим понимание права на уже совершенно новом уровне. В этом заключается сущность предложенного нами компрехендного подхода к познанию права (от лат. comprehendo – всеохватывающий), позволяющего не сосредоточиваться на одной какой-нибудь концепции права, а рассматривать его целиком [3].
Компрехендный подход к пониманию права – это не очередная его концепция и не квинтэссенция «лучшего» из уже предложенного. Смысл его заключается в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиде-логизированном познании права, и чем объективней будет исследователь, тем скорее мы придем к познанию права.
Также предложенный нами подход предполагает изучение права не только как социального явления, но и как естественной потребности в правовых нормах, как психологического стремления и др. Однако мы считаем, что любое явление нужно начинать изучать с точки зрения философии, позволяющей всесторонне оценить внутренние противоречия права, лежащие, что называется, на поверхности.
Возьмем в качестве примера право и экономику. Согласно К. Марксу право почти полностью зависит от экономики, поскольку без сильной экономики многие естественные права человека – это всего лишь ничего не содержащие и не имеющие практического смысла лозунги. Но если право зависит от экономики, пусть даже частично, оно не может быть полностью справедливым, как не может быть справедливой экономика, цель которой – получение прибыли одними за счет других. А ведь именно справедливость позволяет человеку быть уверенным в своей защищенности правом. О соотношении права и справедливости ведется речь от Античности до наших дней.
Возьмем в качестве примера состязательный процесс, считающийся наиболее демократичным, обеспечивающим равенство сторон. В ходе его каждая из сторон представляет суду свои сведения о предмете спора и пытается убедить его именно в своей правоте. Решения же суда зачастую зависят от убедительности аргументов тяжущихся, для чего в ход может идти откровенная ложь.
Таким образом, право откровенно противоречиво и в определенных вопросах даже аморально. Оно представляет собой явление общественной жизни и отражает не только его достоинства, но и пороки.
Нас всегда удивляло, почему люди идеализируют именно право, а, например, не экономику, культуру или политику. Эти отрасли знания получают обычно более взвешенные и объективные оценки. Возможно, причина в самом феномене права как отражении стремления человека к честности и справедливости, возможно, идеализируют право сами ученые, оторванные от конкретных правовых реалий. А что о праве думают не мыслители, а обычные люди?
На протяжении многих лет мы изучали общественное мнение москвичей. Сначала было опрошено две тысячи человек, 83 % из которых на вопрос о том, что такое право, по их мнению, ответили, что право – это запрет, а само слово ассоциируется в первую очередь с запретом и наказанием.
Во втором опросе участие приняло уже пять тысяч человек. Из них почти такое же количество (86 %) дали на этот вопрос такой же ответ.
В 2020 г. было опрошено уже десять тысяч человек. 87 % респондентов на вопрос о праве ответили так же, как и в ходе первых двух опросов.
Получается, что ученые видят в праве мерило свободы, равенства и справедливости, а у людей оно ассоциируется в первую очередь с запретом и наказанием. Но почему запрет и наказание в праве для них значимее обязательно установленных правил или узаконенного порядка осуществления каких-либо действий?
В контексте изучения права следует обратить внимание на Основной закон РФ, объявивший человека, его права и свободы высшей ценностью. Но полностью ли справедливы такие слова? Лучше всего на этот вопрос ответила Русская Православная церковь.
По мнению иерархов Церкви, права и свободы человека неотделимы от его обязанностей и ответственности. Но есть ценности, занимающие такое же положение, что и права человека. Это вера, нравственность, святыни, Отечество. Подавление веры и нравственной традиции, оскорбление религиозных и национальных чувств, угроза существованию Отечества недопустимы, как недопустимо и узаконение осуждаемого традиционной моралью и всеми историческими религиями поведения.
Таким образом, Конституция РФ должна провозглашать высшей ценностью не только права конкретного человека, но и всего российского общества, значимость Отечества.
Нормы о защите государства и общества содержатся в различных федеральных законах, но не в Конституции. Получается, что нормы Конституции несовершенны. Вот так. Хотя юристы и философы, четко разграничивающие право и закон, пишут о том, что право – это хорошо, а законы, его реализующие, бывают некачественными. Приоритет всегда отдается праву как некоему светлому, справедливому, истинному, правдивому явлению, но мы в очередной раз убедились, что все весьма неоднозначно, как неоднозначно и то, что вся наша жизнь обеспечивается не только правом, а всей совокупностью социальных регуляторов, а потому прав профессор Ф.Х. Галиев, обосновавший идею о синкретизме современной правовой культуры [4].
По мнению Ф.Х. Галиева, социальные нормы не изолированы друг от друга, следовательно, синкретизм современной правовой культуры состоит в том, что она формируется и функционирует как составной элемент процесса воздействия права на общественные отношения в единстве с другими социальными регуляторами – моралью, религией, этикой, традициями и обычаями [4, с. 23].
Выводы профессора Ф.Х. Галиева подтверждает вся история развития человечества. Так, в свое время Э.Б. Тайлор в результате анализа первобытной культуры сделал вывод о ее общечеловеческой направленности.
Н.В. Клягин, исследуя социально-философское проявление происхождения цивилизации, также приходит к выводу о единении всех социальных регуляторов в общественном развитии. В частности, анализируя взаимосвязь права и морали, он пишет о том, что, не являясь эквивалентами нравственных норм, правовые нормы имеют аналогичные им задачи и преследуют ту же цель, заключающуюся в обеспечении целостности общества, которая выражается в однотипности и предсказуемости поведения его членов, а потому правовые нормы генетически связаны с нравственными [5, с. 124–125].
О взаимном влиянии права и морали, а также иных социальных регуляторов писали многие отечественные исследователи: С.С. Алексеев, Н.И. Ма-тузов, В.А. Ойгензихт и др.
Очень ярко проявляется связь права и с религиозными догмами. Так, отечественные мыслители различных исторических периодов зачастую не видели особых различий между божественной благодатью, справедливостью и моральными предписаниями. Об этом свидетельствуют позиции и известных религиозных деятелей, и христианских просветителей. Ученые, специально анализирующие указанную проблему, приходят к выводу, что успехи российского государства и нравственность общества базировались на праве, определяемом Божественной справедливостью. Например, по мнению Ф.Х. Галиева и Ф.М. Раянова, правовые нормы представляют собой всего лишь частичную и притом элементарную конкретизацию нравственных норм и заповедей христианства [6, с. 192].
Ученые анализируют позицию Ю.В. Костина [7], который также, по существу, не разделяет право и нравственность в общественном сознании, имея в виду российскую историческую ретроспективу. Наши предки беззаконием считали любое безнравственное деяние, не имело значения наличие или отсутствие его правовой основы. Безнравственное и противоправное становились в один ряд, ибо законным полагалось то, что справедливо в общественном сознании того исторического периода, аморальное явление и поведение рассматривалось как нарушение «правды», которое, в свою очередь, объединяло закон, законность и справедливый суд.
Ф.Х. Галиев и Ф.М. Раянов также обращают внимание на то, что в начале XIX в. в Российской Империи (до систематизации и кодификации юридических норм, значительная роль в проведении которой принадлежит М.М. Сперанскому) система права базировалась на господствующих в обществе других социальных правилах, в первую очередь религиозных канонах и заповедях [6, с. 192]. Они считают, что без поддержки других социальных норм, каждая из которых регулирует свой пласт общественных отношений, право немыслимо [6, с. 193–194]. В этом, вероятнее всего, и проявляется синкретизм правовой культуры, который, по мнению ученых, позволяет дифференцировать «своих» и «чужих» исходя из тех качеств, которые люди высоко ценят в себе или, наоборот, считают неприемлемыми. По их мнению, россияне культивируют такие черты характера, как душевность, щедрость, приветливость, жизнерадостность, доверчивость, простота, открытость, гостеприимство, надежность, верность. В основе указанных характеристик лежит совокупность действующих в обществе социальных правил. С другой стороны, Ф.Х. Галиев и Ф.М. Раянов обращают внимание на то, что на противоположной стороне находятся «чужие», демонстрирующие другие свои качества: скрытность, завистливость, скупость, алчность, агрессивность, лицемерие, властность, хитрость, подлость и т. п. [6, с. 194–195].
С выводами наших ученых созвучны позиции западных исследователей. Например, по мнению известного американского политолога С. Хан- тингтона, в периоды кризисов идентичности люди сплачиваются с теми, у кого те же корни, вера, язык, ценности и институты [8, с. 185–186].
В другой своей работе С. Хантингтон, обосновывая, по существу, ту же идею уже применительно к современному обществу, подходит к проблеме со стороны религии, справедливо утверждая, что религия становится все значимее в современном государстве и обществе, существенно влияет на менталитет народов [9, с. 554–555].
Интересное исследование в сфере ментальности русского народа провели Ф.Х. Галиев и Ф.М. Раянов. Они увидели близость русского народа к религии. По мнению ученых, в сознании русских правовое восприятие окружающей реальности очень часто проходит через их отношение к православию. На данное обстоятельство в свое время обращал внимание и Н.А. Бердяев.
В то же время Н.А. Бердяев видел в религиозности русских ее всепоглощающее начало, проникновение и единение с моралью. С этой мыслью перекликается и утверждение Ф.Х. Галиева и Ф.М. Раянова о том, что религия и мораль взаимопереплетаются в общественном сознании, становясь единым целым [6, с. 198].
По Бердяеву, взаимодействие религиозных догм и правовых предписаний очевидно. Вместе с тем взаимодействие не ограничивается лишь правом и религией, оно применимо ко всей совокупности социальных регуляторов, и, по мнению Ф.Х. Галиева и Ф.М. Раянова, просто очевидно.
Предложенные учеными подходы к характеристике синкретизма правовой культуры убеждают нас в правильности компрехендного подхода к пониманию права. Его можно и нужно воспринимать через афоризмы, кроме того, помнить и о синкретизме правовой культуры в целом. Это тоже дополнительные грани права, объективная истина современной правовой реальности.
В своей научной деятельности мы исходим из того, что мир познаваем и объективная истина постижима. Искренне надеемся, что сформулированный нами компрехендный подход позволит человечеству познать такое интереснейшее явление, как право.
Список литературы Познание права через компрехендный подход с помощью афоризмов
- Смолькова И.В. Юридические афоризмы. М.: Юрлитинформ, 2013. 533 c.
- Захарцев С.И., Сальников В.П. Предлагаем Вашему вниманию компрехендную теорию познания права // Мир политики и социологии. 2016. № 3. С. 170-183.
- Захарцев С.И., Сальников В.П. Размышляем о сущности права: компрехендный подход // Правовое государство: теория и практика. 2017. №. 1 С. 13-30.
- Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры современной России: теоретико-методологическое и историко-прикладное исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 55 с.
- Клягин Н.В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект) / отв. ред. Л.П. Буева. М.: ИНФРА-М, 1996. 252 с.
- Галиев Ф.Х., Раянов Ф.М. Обществоведение в XXI веке: теоретико-правовой аспект. Уфа: Башк. энцикл., 2018. 292 с.
- Костин Ю.В. Идеи соотношения государства, права и нравственности в истории политической и правовой мысли дореволюционной России второй половины XIX - начала XX века: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 46 с.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. М.: АСТ, 2006. 571 с.
- Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ: Транзит-книга, 2004. 636 с.