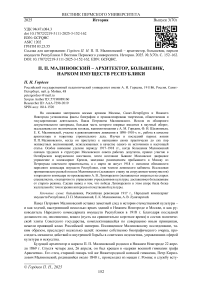П.П. Малиновский – архитектор, большевик, нарком имуществ Республики
Автор: Гордеев П.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основании материалов восьми архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода установлены факты биографии и проанализирована творческая, общественная и государственная деятельность Павла Петровича Малиновского. Исходя из обширного документального материала, большая часть которого впервые вводится в научный оборот, исследованы его политические взгляды, взаимоотношения с А. М. Горьким, Ф. И. Шаляпиным, Е. К. Малиновской, участие в революционном движении в 1890–1910-х гг., работа в качестве архитектора и теоретика строительного дела. Изучен и последний период жизни П. П. Малиновского, когда он приступил к написанию своих практически до сих пор неизвестных воспоминаний, использованных в качестве одного из источников в настоящей статье. Особое внимание уделено периоду 1917–1918 гг., когда большевик Малиновский сначала трудился в структурах Московского совета рабочих депутатов, принял участие в Октябрьском вооруженном восстании, затем возглавил бывшее Московское дворцовое управление и комиссариат Кремля, заведовал размещением прибывшего в Москву из Петрограда советского правительства, а с марта по август 1918 г. исполнял обязанности народного комиссара имуществ Республики, став членом ленинского кабинета. Исследован принципиально разный подход Малиновского (делавшего ставку на сотрудников-коммунистов) и народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского (пытавшегося опереться на старых специалистов, «экспертов») к управлению учреждениями культуры, доставшимся большевикам от старого режима. Сделан вывод о том, что победа Луначарского в этом споре была более желательной с точки зрения интересов отечественной культуры.
Большевики, Российская революция 1917 г., Народный комиссариат имуществ Республики, П. П. Малиновский, Е. К. Малиновская, А. В. Луначарский, большевики, Российская революция 1917 г., Народный комиссариат имуществ Республики, П. П. Малиновский, Е. К. Малиновская
Короткий адрес: https://sciup.org/147252190
IDR: 147252190 | УДК: 94(47).084.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-152-162
Текст научной статьи П.П. Малиновский – архитектор, большевик, нарком имуществ Республики
Павел Петрович Малиновский оставил заметный след в истории отечественной культуры – и как зодчий, выстроивший несколько ярких зданий в Нижнем Новгороде и Москве, и как руководитель Народного комиссариата имуществ Республики в 1918 г. Благодаря последней должности он, несомненно, вошел (пусть на сравнительно короткое время) в состав политической элиты Советского государства, комплектовавшейся по совершенно иным принципам, нежели правящий класс Российской империи. Посвященное Малиновскому исследование, таким образом, преследует несколько целей: помимо собственно биографического очерка, проследить механизм действий и внутренней борьбы в советских ведомствах, управлявших сферой культуры и искусства.
Будущий архитектор и нарком П. П. Малиновский родился в Нижнем Новгороде 22 апреля 1869 г. Спустя четыре дня, 26 апреля, он был крещен в «церкви военной гимназии графа Аракчеева». Его отец, старший писарь той же Нижегородской военной гимназии, Петр Кириллович Малиновский, родившийся около 1840 г., происходил из мещан г. Ромны; в службу всту-
пил («из кантонистов особой команды») уже в Нижнем Новгороде, писарем 3-го разряда, в 1860 г. В 1867 г. он женился на дочери унтер-офицера Александре Васильевне Кубанцовой (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 89. Л. 57–57 об., 66 об.–69). Затем он перешел на работу конторщиком-корректором в частную типографию Ройского и Душина и подрабатывал регентом церковного хора. Скончался глава семейства в 1890 г. (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 80; Д. 95. Л. 10; ЦГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 2236. Л. 6, 9), оставив семью на попечение старших детей.
Его сын Павел в 1879–1886 гг. учился в нижегородском Владимирском реальном училище, закончив его с хорошими и отличными оценками (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 89. Л. 72–72 об.). В написанной в 1934 г. автобиографии он вспоминал о том, как уже с 12 лет приходилось искать заработок и как в шестнадцатилетнем возрасте он вступил «в кружок “Самообразования” соцнаправления» (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 48). В других записках Малиновский отметил, что в годы учебы он увлекся народническими идеями при содействии «б[ывшего] народовольца Д. Душина (опального сына владельца типографии, где мы работали с отцом)». Душин снабжал Павла запрещенной литературой, вследствие чего мальчик проникался мыслью о борьбе с «существующим порядком» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 80–80 об.). В 1887 г. он отправился в Петербург и был принят на первый курс Института гражданских инженеров. Пять лет учебы, если судить по личному делу, были наполнены бытовыми трудностями – просьбами о назначении стипендии (со ссылкой на «недостаточное состояние» отца) и справками о многочисленных болезнях. Последние, впрочем, не мешали успешному обучению: в 1892 г. Совет института на выпускном испытании присудил Павлу Петровичу золотую медаль («за лучшие архитектурные работы») (ЦГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 2236. Л. 1–1 об., 5–7, 9, 11, 17, 22–37 об.).
Обещавшая успех и славу карьера надломилась в самом начале: молодой зодчий, заразившийся революционными идеями, отказался дать присягу на верность государю. Малиновский так вспоминал об этом инциденте: «По окончании курса получил назначение архитектором Петербургского порта, но в результате отказа от присяги при поступлении на службу должен был немедленно покинуть Питер (дешево отделался только потому, что рекомендовавшие меня персоны лично были заинтересованы в том, чтоб не создавать шума вокруг этого революционного по тому времени факта), выехал на родину в Нижний, но по дороге застрял в Москве» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 80 об.–81). В Первопрестольной он несколько месяцев работал помощником у архитектора М. К. Геппенера «в тяжелых моральных и материальных условиях». Последовавшие вскоре «нервное переутомление (включительно до галлюцинаций) и вспышка туберкулеза» заставили в мае 1893 г. перебраться в более здоровую местность, в Ко-логривский уезд Костромской губернии, где он принял участие в строительстве сельскохозяйственного училища имени Ф. В. Чижова. Получив строительный опыт, осенью 1893 г. Малиновский вернулся в Нижний Новгород (Там же).
На родных волжских берегах молодой специалист сразу приступил к работе, заняв должность архитектора в городской управе. В 1894–1896 гг. он принимал участие в строительстве сооружений для Всероссийской выставки, одновременно руководя реконструкцией Дмитровской башни Нижегородского кремля и возводя электростанцию у Окского моста. Начиная с 1897 г. Малиновский служил архитектором в уездной, а затем губернской земских управах, проектировал школы и больницы (всего по его типовым проектам в Нижегородской губернии было построено более сотни школ). В начале 1900-х гг. он возвел комплекс психиатрической лечебницы в д. Ляхово, ставший одной из творческих удач зодчего (ГАРФ. Ф. А–539. Оп. 1. Д. 876. Л. 13) [ Нифонтов , 1973, с. 10–13, 16].
В Нижнем Малиновский обрел и личное счастье. 10 января 1896 г. он обвенчался в Ми-хаило-Архангельском соборе с Еленой Константиновной Малишевской (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 9. Д. 63. Л. 61 об.–62), впоследствии ставшей известным театральным деятелем. В их семье появились на свет семь детей, шестеро дожили до взрослого возраста (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Д. 24а. Л. 698). Молодая пара жила сравнительно безбедно: супруги в 1896 и 1899 гг. ездили в Западную Европу, во время последней поездки Малиновский осматривал подготовку Парижа к Всемирной выставке (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 81 об., 83). На рубеже веков Малиновские сблизились с семьей Пешковых: в 1901 г. А. М. Горький и его жена проводили лето на даче
Малиновских на Моховых горах, неподалеку от Нижнего Новгорода [ Нифонтов , 1973, с. 19]; в 1902 г. Малиновский сделал ряд эскизов декораций для постановки «На дне» в МХТ ( Горький , 1997, с. 74–75, 295–296). Кишевшее революционерами окружение Горького стало дружеской средой и для Павла Петровича. «Через него знакомство с массой все новых и новых интересных людей, группировавшихся около него, как восходящего литературного светила, революционера, общественника, большого человека и чуткого товарища», – вспоминал Малиновский о начале дружбы с Горьким (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 83). В сводках Нижегородского охранного отделения уже в 1903 г. фиксируется «революционная совместная деятельность» супругов Малиновских и врача, члена партии эсеров Н. И. Долгополова (ЦАНО. Ф. 916. Оп. 1. Д. 10. Л. 10 об.). По утверждению самого Павла Петровича, в январе 1904 г. он вступил в партию большевиков. Н. А. Семашко, рекомендуя его в 1923 г. в члены Всесоюзного общества старых большевиков, отметил, что знал П. П. Малиновского со времен первой революции как «твердокаменного» большевика (РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1185. Л. 3, 54).
В первые годы XX в. Малиновскому удалось создать несколько ярких архитектурных произведений в Нижнем Новгороде. Построенный им в начале 1900-х гг. СпасоПреображенский собор в Сормове был выдержан в формах византийского зодчества [ Нифонтов , 1973, с. 16–17]. В возведенном же в 1900–1903 гг. здании Народного дома видны предугаданные Малиновским рационалистические тенденции в архитектуре модерна [ Орельская , 2018, с. 79–80]. Для того, чтобы найти деньги на окончание строительства, друживший с Горьким и Малиновскими Ф. И. Шаляпин дал в сентябре 1903 г. специальный концерт и, видимо, тогда же набросал дружеский шарж, изображавший полураздетого и замученного тяготами зодчего с подписью «Малиновский после постройки Народного дома» [ Малиновская , 1975, с. 31]. В декабре 1903 г. в Народном доме открылся общедоступный театр, руководимый правлением из девяти пайщиков, в число которых входили супруги Малиновские, А. М. Горький, Е. П. Пешкова. Хотя это предприятие просуществовало лишь до мая 1904 г., а затем закрылось (из-за ряда причин, в том числе финансового свойства, конкуренции со стороны городского театра и отъезда Горького из Нижнего), театр в Народном доме оставил заметный след в культурной жизни поволжского города [ Нифонтов , 1973, с. 28–29].
Властей беспокоило, что и после закрытия театра Народный дом служил местом для разнообразных сходок. 29 декабря 1904 г. митинг в этом здании был разогнан полицией (Революционное движение…, 1957, с. 318–321); тогда досталось и Малиновскому, вспоминавшему, что им были получены «травма ножнами шашки надбровной дуги и глаза (все чаще и чаще напоминающая о себе страшными головными болями и временной слепотой) и травма грудной клетки при избиении полицией» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 85 об.–86). Позднее, уже в январе 1905 г. в квартире Малиновских произвели обыск, закончившийся для главы семьи арестом, почти сразу замененном на подписку о невыезде (Там же). Но все эти неприятности казались мелкими на фоне революционных событий 1905 г., в которые Малиновские погрузилась с головой. Павла Петровича избрали в гласные городской думы, где он занял крайнюю левую позицию; упрекая других гласных в нерешительности в вопросе преобразования полиции в подчиненную городу милицию, он говорил: «Что-нибудь одно: или поддерживать этот режим, или же добиваться действительного самоуправления» (Собрание думы, 1905). В декабре Малиновский участвовал в подготовке восстания в Нижнем (его участие «выразилось в добыче средств на вооружение и нескольких револьверов из местных источников»), скрываясь, по его воспоминаниям, от угрожавших расправой черносотенцев (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 86 об.–87).
Революционная деятельность будоражила нервы и распаляла тщеславие, однако негативно сказалась на архитектурной работе. Число заказчиков стало таять. «В январе 906 г. горбур-жуазия и дворянство, не успевшие расправиться со мной дубьем, расправились рублем, выставив меня отовсюду с работы, кроме Губземуправы, где я нужен был еще для завершения начатых работ, и лишила заработка при десятке у меня едоков», ‒ жаловался зодчий в своих написанных уже в советские годы мемуарах (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 87). Малиновские все чаще задумывались об отъезде из Нижнего, что и осуществили в 1908 г., переехав в Москву, где Павел Петрович устроился в Управление строительства городского трамвая. Вскоре твор- ческой удачей для архитектора стала победа на конкурсе на постройку дома Удельного ведомства. Возводившееся несколько лет неоклассическое здание в Трубниковском переулке (д. 19) сделало имя нижегородца известным в древней столице [Нифонтов, 1973, с. 39–41]. Супруга, вообще критически оценивавшая достижения мужа, писала Е. П. Пешковой осенью 1912 г.: «П[авел] все еще с домом возится, к Рождеству не кончит. Фасад царственный – вся Москва говорит, слава растет, недостаток средств тоже, хотя живем более чем скромно» (ИМЛИ РАН. Архив Горького. ФЕП-кр 39–1–51. Л. 2 об.).
Малиновские поселились в Трубниковском, где сразу, по воспоминаниям зодчего, «было положено начало систематического использования новой квартиры… необыкновенно удобной в конспиративном отношении [как] для явок, встреч, так и небольших партсобраний и пр.» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 91 об.). Впоследствии, когда Малиновский возвел в 1914– 1915 гг. эффектный дом дирижера С. А. Кусевицкого в Глазовском переулке, семья зодчего (а с ней и нелегальные собрания) переместились туда [ Нифонтов , 1973, с. 43–45]. Подпольные связи не оборвались, а только окрепли с переездом из Нижнего в древнюю столицу: Елена Константиновна вошла в состав Московского комитета большевистской партии, ведая финансовыми вопросами (РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1183. Л. 6 об., 8, 14). Впрочем, даже установление за ней в 1911 г. полицейской слежки не повлекло существенных неприятностей ни для нее, ни тем более для мужа, продолжавшего заниматься и строительной, и преподавательской деятельностью (обучая архитектуре на частных курсах) (ГАРФ. Ф. 63. Оп. 44. Д. 3195. Л. 1–10; Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 13).
На первый взгляд Малиновские являли собой в предвоенной Москве пример благополучия, созданного личным трудом главы семейства. Для посвященных в дела революционного подполья маска внешнего буржуазного успеха снималась; на поверку семья зодчего оказывалась ячейкой ленинской партии, дружно работавшей во имя торжества пролетариата. Но и это «двойное дно» оказывалось не последним: в реальности в 1910-х гг. супруги представляли из себя двух измученных, далеких друг от друга людей. Увлечения Елены Константиновны – как политические (в 1910 – начале 1911 гг. она примыкала к руководимой А.А. Богдановым группе «Вперед» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 90 об.)), так и личные (примерно в это же время у нее вспыхивает чувство к другу Горького врачу А. Н. Алексину) ‒ сделали атмосферу в семье тяжелой. 14 ноября 1913 г. Е. К. Малиновская жаловалась на мужа в письме к Е. П. Пешковой: «Злобу я чувствую к нему только в моменты обострения и охотно бы помогла ему, но мы разговариваем на разных языках. Мечтала и много раз уговаривала его жить одному, а я бы с ребятами перебралась в провинцию – там дешевле и лучше. Конечно, и слышать не хочет. Дети тоже страдают от него существенно, хотя я и охраняю, насколько возможно. Хотя бы влюбился в кого! Серьезно, Катерина, глупо, недостойно человека плыть по течению и давать давить ребят человеку, кот[орому] место в санатории нервных больных» (ИМЛИ РАН. Архив Горького. ФЕП-кр 39–1–33. Л. 3–4; ФЕП-кр 39–1–62. Л. 1 об.).
Расходясь все дальше в личном отношении, на важнейшие политические вопросы супруги по-прежнему смотрели одинаково. Начало Великой войны Малиновские встретили без патриотического подъема; Павел Петрович хвалился в написанных в 1930-х гг. мемуарах: «Будучи воспитан “пораженцем” еще в японскую войну, естественно, что я остался таким и в эту еще более ярко и ясно выраженную империалистическую войну, тем более, что я находился в постоянном общении с такими твердокаменными “пораженцами”, как тт. П. Г. Смидович, И. И. Скворцов и вернувшийся в Россию М. Горький» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 92 об.). Дочери-подростку, Елене Павловне, запомнился визит к ним вскоре после начала боевых действий брата отца, уезжавшего на фронт, причем «дядя Вася был так возмущен пораженческой позицией брата, что, не попрощавшись, убежал на станцию» (ГАРФ. Ф. Р–7009. Оп. 1. Д. 24. Л. 67 об.). Свои взгляды Малиновский, по-видимому, высказывал осторожно: зодчему-большевику удавалось делать карьеру даже в учреждениях, патронируемых Императорским двором. Так, 25 ноября 1916 г. великий князь Петр Николаевич утвердил его в числе штатных преподавателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества (РГИА. Ф. 472. Оп. 58 (15 доп.). Д. 3а. Л. 688).
1917 г. радикально перевернул жизнь семьи Малиновских. 28 февраля в их квартире в Глазовском переулке происходило последнее дореволюционное собрание городского комитета большевиков (ГАРФ. Ф. Р-7009. Оп. 1. Д. 24. Л. 11-12 об.), во время которого, как вспоминал П. П. Малиновский, была составлена («при нашем с т. Малиновской участии») листовка Московского комитета партии («кончившаяся лозунгом долой войну»), уже на следующий день распространявшаяся в городе. Сам архитектор, как и в 1905 г., с головой окунулся в революцию, много позднее так описывая этот период своей жизни: «С 28 февр[аля] всякие семейные личные дела и работа по специальности, с которой я обычно связывал общественную и партийную, отошли на задний план, и я целиком ушел в общественно-политическую и партийную работу, не отказываясь от связи ее с чисто деловой в областях, к которым был подготовлен теоретически или практически» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 89. Л. 61; Д. 93. Л. 94–94 об.). Политическая деятельность Малиновского в феврале - октябре 1917 г. была преимущественно связана с Московским советом рабочих депутатов, Исполнительная комиссия которого 11 марта уполномочила его войти в состав Комиссии по отводу помещения для народных собраний и митингов. Зодчий и сам брал слово на митингах, причем не всегда удачно: «В конце июня или в самом начале июля по глупости неосторожно выступив около храма спасителя с разоблачением клеветнической кампании против большевиков… едва спасся от черной сотни, благодаря группе рабочих, помогших мне скрыться» (Там же).
25 октября 1917 г. на совещании московских большевиков Малиновский был включен в состав четверки, которая должна была подготовить план уличного баррикадного боя [ Аросев, 1927, с. 19]. Во время принятия этого решения Павел Петрович сидел с 40-градусной температурой, а еще через два дня слег в постель с крупозным воспалением легких и пролежал в «состоянии полузабытья» несколько дней (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 95 об.), в течение которых Московский военно-революционный комитет (МВРК) в ожесточенном сражении сумел установить контроль над Первопрестольной. В первых числах ноября Малиновский вернулся к политической деятельности; на заседании 5 ноября МВРК постановил организовать комиссию по похоронам участников боев «с т. Малиновским и представит[елями] районов», 14 ноября зодчий был включен в новый состав Президиума Моссовета (Московский военнореволюционный комитет, 1968, с. 206, 270). В сформировавшуюся в ноябре при Моссовете Комиссию по охране памятников древности и искусства Малиновский вошел сначала в качестве заместителя председателя, а чуть позже ее возглавил. В конце 1917 г. он, по некоторым данным, занял также пост гражданского комиссара Кремля (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 96) (возможно, без официального утверждения, состоявшегося уже в марте 1918 г.).
Начиная с 4 января 1918 г. в приказах по Народному комиссариату имуществ Республики (НКИР), образованному в декабре 1917 г. [ Гордеев , 2024, с. 128] Малиновский упоминается в качестве комиссара Московского дворцового управления (ГАРФ. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 9. Л. 215). Само назначение состоялось раньше, но вплоть до января его власть была условной из-за «саботажа» служащих. В ходе исполнения своих новых обязанностей Малиновский 20 декабря 1917 г. посетил Румянцевский музей; заведовавший библиотекой музея историк Ю. В. Готье записал в дневнике: «Приезжал комиссар Малиновский, гаденький, плюгавенький человечек, не внушающий доверия», ‒ отметив при этом, что комиссар «вел себя… очень скромно» ( Готье , 1997, с. 57). У сотрудников Малиновского, разделявших его взгляды, облик Павла Петровича запечатлелся в более выгодном свете. «Какая-то убедительная сила, смелость и решительность чувствовались в нем с первого же момента и вызывали доверие к нему как к руководителю и организатору», ‒ вспоминала познакомившаяся с Малиновским в 1917 г. (по работе в учреждениях Моссовета) художница Е. М. Бебутова ( Бебутова , 1964, с. 284). Один из кремлевских сторожей, также оставивший восторженные воспоминания о Малиновском, немного переборщил, описав и такой эпизод (по мнению мемуариста, видимо, подчеркивавший большевистскую энергию комиссара): «В Кремле был поп Успенский, который вел антисоветскую пропаганду, а жил он в бывшем дворцовом доме у Каменного моста, то тов. Малиновский не постеснялся выгнать его из квартиры» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 95. Л. 165).
В начале 1918 г. Павел Петрович предпринял меры по реальному подчинению дворцового управления: «В Кремле быстро было покончено по договоренности [с] Реввоенштабом с двоевластием, оставлявшим лазейки для притаившихся, но скоро выявленных активных контрреволюционеров среди военно-чиновной верхушки б[ывшего] Дворцового управления и попов дворцовых церквей» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 96 об.–97). 24 января 1918 г. на общем собрании дворцовых служащих было признано, что власть начальника дворцового управления князя Н. Н. Одоевского-Маслова «фактически упразднена». Служащие постановили избрать для ведения текущих дел Временный исполнительный комитет из пяти человек и «немедленно» сообщить об этом «Комиссару Тов. Малиновскому и Общему Собранию служащих». 31 января Малиновский в качестве «Комиссара Дворцового Ведомства» присутствовал на собрании «Коллектива служащих Управления Московскими Дворцами», избравшего президиум, и признал выборы произведенными правильно. В дальнейшем он следил, чтобы самостоятельность его подчиненных не заходила слишком далеко; так, на одном из приказов (о назначениях по службе), подписанных «председательствующим Коллектива» Н. И. Савиновым, Малиновский 26 февраля (даты после 1 (14) февраля 1918 г. приводятся по новому стилю) надписал: «Настоящий приказ, как изданный без согласия Комиссара, аннулируется» (ГАРФ. Ф. Р-1056. Оп. 1. Д. 11. Л. 2, 3 об.; Д. 14. Л. 11–11 об.).
Одновременно в январе – марте 1918 г. П. П. Малиновский занимался множеством бытовых вопросов, постоянно возникавших в обширном хозяйстве бывшего придворного ведомства. Гренадеры Георгиевской (ранее именовавшейся Дворцовой) роты просили у него прибавки к содержанию; увольняемому придворному духовенству кремлевских соборов и церквей необходимо было выплачивать ликвидационное вознаграждение; кроме того, решения требовал и вопрос со служащими Варшавского дворцового управления и Управления княжества Ловичского, эвакуированными в 1915 г. преимущественно в Москву. Для упразднения этих учреждений 4 января 1918 г. при НКИР была создана особая ликвидационная комиссия во главе с Малиновским (ГАРФ. Ф. Р-1056. Оп. 1. Д. 7. Л. 35; Д. 15. Л. 13–14; Ф. 1261. Оп. 1. Д. 9. Л. 215). Распорядительный комиссар был на хорошем счету у перебравшегося в древнюю столицу большевистского руководства. П. Д. Мальков в своих воспоминаниях упомянул, что при вступлении в должность коменданта Кремля он получил ряд инструкций от Я. М. Свердлова, сообщившего бывшему матросу о том, что дворцы будут не в его власти: «Ими распоряжается Управление дворцового имущества, товарищ Малиновский, человек грамотный» ( Мальков , 1959, с. 113).
Как раз в это время, в марте 1918 г., «грамотный» человек понадобился Совету народных комиссаров (СНК) на другом посту. Советское правительство начало спешный переезд в Москву, и Малиновский, возглавлявший, среди прочего, Реквизиционную комиссию Моссовета, оказался в данном случае незаменимым специалистом. 3 марта Президиум Моссовета поручил ему и П. Г. Смидовичу организовать встречу и размещение в Москве Совнаркома и ВЦИК, а спустя неделю, к моменту прибытия первых поездов с советскими чиновниками, Малиновский встал во главе спешно образованной Чрезвычайной комиссии по эвакуации Советского правительства из Петрограда в Москву [ Малиновский , 1968, с. 101–102]. Новое назначение оказалось весьма хлопотным. «Не имея ни задания, ни плана, ни людей, ни средств передвижения, ни времени, а вместо всего этого – нетерпеливую, требующую бешеных темпов в удовлетворении своих якобы неоспоримых нужд, не считаясь с московскими возможностями, частично чванливо и анархически настроенную непрерывно возраставшую человеческую лавину», он все же смог справиться с задачей, полагаясь на свои «память мест и лиц, которой я в то время мог похвастаться, и опыт прежней работы» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 98). Распорядительный и знающий Москву зодчий-большевик был замечен высшими советскими властями.
Между тем в марте 1918 г., после ухода несогласных с заключением Брестского мира левых эсеров из правительства, образовались несколько вакантных наркомовских должностей, в том числе и пост народного комиссара имуществ Республики, ранее занимавшийся В. А. Карелиным. Кандидатура Малиновского, уже известного и московским дворцовым служащим, и членам ленинского кабинета, напрашивалась сама собой. Позднее А. В. Луначарский вспоминал, что он в то время «по прямому проводу передавал из Петрограда в Москву через т. Стали- на о невозобновлении самостоятельного Комиссариата Имуществ Республики по освобождении портфеля за уходом Карелина», желая присоединить это учреждение к Наркомпросу, но И. В. Сталин ответил ему, «что Совнарком имеет в виду для замещения этого поста в Москве лицо, весьма подходящее персонально, а именно т. Малиновского» (ГАРФ. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 14. Л. 11–11а; Д. 41. Л. 10). 18 марта СНК постановил назначить Малиновского «временным заместителем народного Комиссара Имуществ Российской Советской Республики», с возложением на него в то же время обязанностей комиссара Кремля (Там же). Карьера Малиновского как государственного деятеля достигла своей вершины: теперь он стал (хотя и с приставкой «вр. и. о.») членом правительства. Это, конечно, кружило голову человеку, годом ранее руководившему лишь строительными рабочими. Ю. В. Готье, встретивший нового наркома 5 апреля 1918 г., записал в дневнике: «Мне было любопытно видеть тов. Малиновского в виде государственного человека и министра; важности и деловитости было, несомненно, больше, чем у любого деятеля прежнего режима» (Готье, 1997, с. 129).
Сам Малиновский позднее вспоминал: «Принятый мной Наркомат в смысле программы и плана работы, организации штатов, сметы и средств представлял почти пустое место, за исключением Ленинградской организации, оставшейся в управлении Наркомпроса т. Луначарского под общим контролем Наркомата, и Кремлевского комиссариата, а хозяйство Кремля, конной и автомобильной базы Наркомата было необычайно хлопотливо» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 98 об.–99). Мемуарист отмечал, что «больше всего трений вызывало сокращение лишних штатов и расходов по гостеатрам и хранилищам предметов искусства и старины, поскольку т. Луначарский в Ленинграде подходил к этим вопросам иначе, чем мы, привыкшие к сугубой экономии в Москве» (Там же). Расхождения Малиновского с Луначарским, в большей степени делавшим ставку на сотрудничество в области искусства со старыми специалистами, приобретали все более существенный характер. 12 апреля 1918 г. руководимое Малиновским учреждение было официально переименовано в Народный комиссариат художественно-исторических имуществ Республики; тогда же было объявлено о включении комиссариата как «автономного отдела с обособленным кредитом и сметами» в состав Наркомпроса (ГАРФ. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 14. Л. 19). Впрочем, до окончательного слияния ведомств оставалось еще несколько месяцев, в течение которых среди руководства Наркомата имуществ созрела идея сопротивления ликвидации его самостоятельности.
Важным днем для карьеры Малиновского и судьбы возглавляемого им комиссариата стало 10 июля 1918 г. На созванном тогда по специальному постановлению СНК Особом совещании присутствовали оба наркома (Малиновский и Луначарский), их ближайшие сотрудники и представители Наркоматов внутренних дел и юстиции. Открывший заседание Луначарский указал постоянно на возникающие между ведомствами просвещения и имуществ «трения», относя их, впрочем, к объективным причинам: «Объяснить это следует не неуживчивостью характера т. Малиновского, как пытаются некоторые из т.т., а неналаженностью самого аппарата» (ГАРФ. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 41. Л. 10–12 об.). «Комиссариат Имуществ Республики – это лишний аппарат в Конституции Сов[етской] Республики. Он должен превратиться в хозяйственный отдел Комиссариата Народного Просвещения», ‒ завершал свою мысль Луначарский (Там же). Малиновский в ответной речи сделал упор на политическую благонадежность своих подчиненных, сравнив состав Коллегии Комиссариата имуществ с Музейной коллегией Наркомпроса: «В первой испытанные советские социалисты, часть из них специалисты, а во второй, кроме председателя, почти все скрытые кадеты и правые эсеры, способные быть лишь экспертами, но не ответственными политическими руководителями. <…> Характерно также, что кое-кто из членов той же музейной коллегии открыто заявлял в свое время о непризнании Советской власти» (Там же). Впрочем, ни этот аргумент Малиновского, ни его призыв отказаться от хотя бы немедленной ликвидации ведомства, так как сотрудники Наркомпроса не справятся одни (на это Луначарский парировал, что служащие Комиссариата имуществ не должны увольняться, «ибо они ответственны будут, как за забастовку», а у экспертов «не спрашивают, социалисты ли они») не впечатлили собравшихся, вынесших постановление о «своевременности» слияния двух ведомств (Там же).
26 августа 1918 г. Малиновский официально передал Луначарскому все дела, «равно как и самую должность Наркома Имуществ Республики». После этого Павел Петрович перешел на работу в Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), став заместителем председателя Главного комитета государственных сооружений (Главкомгосоора) (ГАРФ. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 169. Л. 18; Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 14). Позднее он вспоминал, как «развил в Главкомсооре бешеную работу по вопросам экономии и техники гражд[анского] строительства, его нормированию и регулированию», однако конфликт с профсоюзным лидером Н. П. Богдановым («не останавливавшимся ни перед какими гнусными приемами») заставил неуживчивого Малиновского весной 1919 г. перейти на работу в Пожарно-страховой отдел ВСНХ (заместителем председателя коллегии). Летом следующего года переутомившегося коммуниста ЦК партии отправил на отдых в Ессентуки, где Малиновский принял участие в кровавых событиях завершающего этапа Гражданской войны: «В это время недалеко от Эссентуков был убит предс[едатель] охр[аны?] ЧК, а в Пятигорске в гроте Лермонтова несколько красных командиров, [в] ответ на которые парторганизация при нашей помощи провела неделю красного террора. Это было рискованно, но иначе поступить было нельзя», ‒ не без гордости вспоминал Малиновский о соучастии в репрессиях, в ходе которого он и его товарищи, среди прочего, «подавили саботаж врачей» местных санаториев (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 100–101).
После возвращения в столицу Малиновский вновь был направлен на работу в Главкомго-соор, а с 1921 г. служил в Госплане, занимаясь строительными вопросами (возглавлял Бюро нормирования стройпроизводства, переданное в 1928 г. из Госплана в структуру Совета труда и обороны), в 1928 г. вошел в состав Совета по стандартизации при СТО. В 1920-х гг. он продолжал занимать видное место в большевистской иерархии. В 1922 г. Павел Петрович получил официальное поздравление с 30-летием профессиональной деятельности от заместителя председателя СНК А. Д. Цюрупы (ГАРФ. Ф. А–539. Оп. 1. Д. 876. Л. 14, 26, 48 об.); [ Казусь , 2009, с. 218, 288]; 27 мая 1924 г. присутствовал на торжественном заседании по случаю выпуска «красных десятников с Московских политехнических курсов им. П. П. Малиновского» (то есть самого себя). Весной 1928 г. отмечалось 35-летие «инженерной и общественной деятельности» Малиновского, для чего на ведомственном уровне создали юбилейную комиссию (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 89. Л. 91, 108). В 1931 г. Малиновский вышел на персональную пенсию, продолжая, впрочем, «в общественно-партийном порядке» сотрудничать в ряде строительных организаций и состоя в редколлегии журнала «Советская архитектура» (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 48 об.). Будучи с 1923 г. членом Всесоюзного общества старых большевиков, Павел Петрович неоднократно обращался к руководству общества за помощью в санаторном лечении для себя и членов семьи, в назначении стипендии для сына Валерия и т.д. (РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1185. Л. 2, 21, 58–59 об., 61–65, 77, 84, 99).
После революции существенные изменения произошли и в личной жизни архитектора-большевика. Вскоре после Октября он развелся с Е. К. Малиновской и в 1918 г. женился вторично на хористке Большого театра Н. Г. Подгорецкой (РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1185. Л. 53). В 1938 г. Малиновский познакомился с учительницей Еленой Васильевной (1895 г. р.), которую он нанял для работы машинисткой, и в том же году, разведясь с Подгорецкой, сделал ей предложение (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 91. Л. 174; Д. 95. Л. 17–18) (по другим данным, они поженились в 1941 г. (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 21, 24); во втором и третьем браках детей не было). К тому времени Малиновский был уже тяжелобольным человеком, практически инвалидом. В феврале 1936 г. в обращении в партком Центрального научного института промышленных сооружений (ЦНИПС) он жаловался на произошедшие с ним несчастья: «Со второй половины декабря 1933 г., в результате отравления светильным газом, благодаря жилбытовому неустройству, при основательно уже изношенном организме более чем полувековой работой и борьбой, я оказался прикованным к больничной койке на 1 ½ года, с небольшим перерывом для опыта лечения на дому; в то же время, независимо от основного заболевания (склероз сердца, мозга, “грудная жаба” и т.д.), я подвергнулся весьма нудной операции (“парапроктит”) с последующими осложнениями в хронической форме» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 97. Л. 63–64). В письме председателю Комиссии по назначению персональных пенсий А. С. Аралову от 10 ноября 1936 г.
Малиновский, прося о повышении пенсии и о зачислении в персональные пенсионеры союзного уровня, отметил, что после отравления в декабре 1933 г. он «остался нервно и сердечно-больным калекой» (Там же). Последние шесть лет своей жизни Малиновский, по воспоминаниям третьей жены, «не мог уже свободно двигаться» (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 24).
Мрачная атмосфера конца 1930-х гг. калечила не только тело, но и душу. Неясно, насколько близко к сердцу он принял репрессии в отношении его троих детей (дочери Елена и Антонина были арестованы, сын Лев – расстрелян [ Гордеев , 2023, с. 91–92]; самого Павла Петровича «чистки» не затронули), но не вызывает сомнения, что эта трагедия еще больше проторила место уничтожавшему личность страху и желанию, так сказать, «бить на опережение». Завершающая часть его мемуаров, написанных в 1939 г., полна призывов к борьбе с прокравшимися в сферу строительства «вредителями» и «правыми оппортунистами». Даже в частном письме к третьей жене Малиновский призывал к «политической бдительности», отмечал наличие «еще невскрытых врагов» и радовался «превращению мелкого собственника-крестьянина с мелкобуржуазными узко личными и семейными интересами и психологией собственника в колхозника» (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 93. Л. 109–111; Д. 97. Л. 40, 41 об.) – одним словом, вел себя, как на партийном собрании.
В октябре 1941 г. Малиновский вместе с супругой и ее малолетней внучкой был эвакуирован из Москвы в Среднюю Азию. В бумагах бывшего наркома сохранился обрывок его прошения от 27 декабря 1942 г. о возвращении из Ташкента обратно в Москву («Среднеазиатский климат противопоказан как мне, так и ухаживающей за мной и помогающей мне в работе жене») (РГАЭ. Ф. 108. Оп. 1. Д. 91. Л. 174; Д. 97. Л. 62). Вернувшись в столицу, уже в июне 1943 г. Малиновский связался с ЦНИПС и Народным комиссариатом коммунального хозяйства РСФСР, где стал сотрудничать в качестве консультанта «по вопросам жилищного и коммунально-бытового строительства, а также по вопросам восстановления городов и рабочих поселков, освобожденных от немецкой оккупации». Волнения, связанные с переездом, а также утомление от добровольно взятой на себя работы, оказались для здоровья роковыми. Елена Васильевна так описывала смерть мужа: «Скончался 12/X 43 г. в 9 ч. 20 м. вечера за письменным столом с карандашом в руке <…> Скончался от кровоизлияния в мозг, очень утомлялся» (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 1. Д. 876. Л. 46, 49 об.). Малиновского похоронили в колумбарии правительственного Новодевичьего кладбища.
Когда-то молодой и талантливый зодчий, бывший одним из центров замечательного нижегородского кружка интеллектуалов и деятелей искусства и оставивший после себя целый ряд ценных памятников архитектуры модерна П. П. Малиновский к 1930-м гг. превратился в испуганного старика, разговаривающего лозунгами даже с самым близким человеком. На вершине своей карьеры в 1918 г. он взлетел до положения члена правительства, но удержаться на этом уровне не смог, будучи вынужден передать руководимый им Наркомат имуществ в ведение А. В. Луначарского. Если принять во внимание, что Луначарский как администратор пытался в то время делать ставку на «старых» специалистов, тогда как Малиновский видел опору прежде всего в коммунистах, аппаратное поражение последнего было, пожалуй, желательным с точки зрения интересов русской культуры. Жизненный путь Малиновского, на котором были и творческие удачи, и соучастие в жестокостях Гражданской войны, и бунтарское настроение в юности, и всепроникающий страх последних лет, по-своему характерен для радикальной части интеллигенции того поколения, активная часть жизни которого пришлась на первую половину XX в.