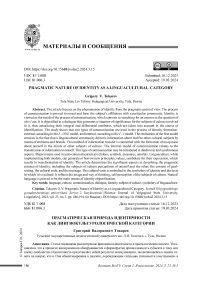Прагматическая природа идентичности как лингвокультурологической категории
Автор: Токарев Г.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению феномена идентичности в прагматическом аспекте. Установлено, что в процессе коммуникации обнаруживается и формируется принадлежность субъекта к тому или иному сообществу. Идентичность представляет собой результат коммуникации, заключающейся в поиске ответа на вопрос, кто я. Она объективирована в диалоге, порождающем ситуацию значимости участвующих в нем субъектов культуры, актуализирующем их интегральные и дифференциальные признаки, которые учтены в ходе идентификации. Выявлено, что в процессе формирования идентичности используются два вида коммуникации: внешний (модель Я - ОН) и внутренний (модель Я - Я). Реализуя внешнюю модель, лингвокультурная общность передает информацию о себе другим субъектам культуры посредством эмблем и брендов. Данный способ передачи информации предполагает формирование мнения о себе в сознании иных субъектов культуры. Внутренняя модель коммуникации связана с передачей информации самому себе и может быть рассмотрена в диахроническом и синхроническом аспектах. Ведущими средствами автокоммуникации выступают эталоны, символы, меры, обереги. Лингвокультура, реализуя обе модели, может генерировать или заимствовать новые принципы, ценности, симболарий для их выражения, что приводит к трансформации идентичности. Определено, что при описании прагматической сущности идентичности значимы представления субъекта культуры о себе, о другом, содержание целеустановок, культурный код, сообщение. Культурный код воплощается в симболарии идентичности и текстах, отражая образ и способ мышления, самоощущение субъекта культуры. Показано, что естественный язык- главное средство объективации идентичности.
Язык, культура, коммуникация, диалог, идентичность, субъект культуры, симболарий лингвокультуры
Короткий адрес: https://sciup.org/149146321
IDR: 149146321 | УДК: 81’1:008 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.15
Текст научной статьи Прагматическая природа идентичности как лингвокультурологической категории
DOI:
Антропоцентрический характер лингвистики конца XX в. стимулировал появление синкретичных направлений, одним из которых является лингвокультурология, призванная изучать особенности интеракции языка и культуры [Телия, 1996, с. 216]. Развитие этой области знания было связано как с генерированием собственного понятийного аппарата, так и его заимствованием из других наук. Одним из базовых интердисциплинарных понятий в теоретическом аппарате лингвокультурологии стала идентичность. Интересно, что оно не вошло в поле зрения многих лингвокультурологических школ, несмотря на то, что воплощает суть диалога языка и культуры. Лингвокультурологическую интерпретацию данного понятия находим в трудах В.И. Карасика. По мнению исследователя, идентичность «представляет собой осознание своей принадлежности к той или иной группе социума и вытекающие отсюда установки мировосприятия и коммуникативного поведения» [Карасик, 2020, с. 285]. Как следует из приведенной цитаты, В.И. Карасик трактует идентичность как феномен ментального и знакового измерения культуры. М.А. Лаппо определяет идентичность как процесс, в котором действуют разнонаправленные тенденции: с одной стороны – выделиться, с другой – примкнуть к своим [Лаппо, 2013, с. 14]. Акцентируя внимание на процессуальном аспекте идентичности, точнее было бы использовать два понятия: идентификация и идентичность. Понятием культурной идентификации оперирует в своих трудах В.В. Красных, толкуя его как «процесс и результат установления культурной принадлежности» [Красных, 2016, с. 132]. Как видим, в предложенной дефиниции исследователь объединяет процессуальный и результативный аспекты. В нашем понимании термин идентификация указывает на категоризацию признаков в семиотической матрице «свой vs. чужой», идентичность – на результат этого процесса. Культурная идентичность – это объективированная система представлений, связанных с самоопределением того или иного субъекта культуры. Идентичность – это не только знания субъекта о самом себе, но и воплощающие их знаки. Из этого тезиса следует, что идентичность, как и культура, имеет два измерения: ментальное и знаковое. В предложенном нами определении идентичности важное место занимает категория субъекта культуры. К.М. Хоруженко объясняет ее как «носителя предметно-практической деятельности и познания... источник активности, направленный на объект» [Хоруженко, 1997, с. 469]. Понятие субъекта культуры включает как отдельную личность, так и социумы, «я-идентичность» и «мы-идентичность» (о терминах см.: [Ассман, 2004, с. 140]), которые могут быть определены по разным признакам: этническому, национальному и др. Субъект культуры генерирует культурные смыслы или использует приемлемые для себя знания, которые были порождены другими субъектами, осуществляет принятые в данном культурном сообществе культурные практики. Представления, формирующие ментальное пространство идентичности, или тезаурус [Телия, 1999, с. 20], включают систему ценностей, норм, запретов, эталонов, стандартов и имеют стереотипный характер. Данные знания объективируются совокупностью знаковых средств, включенных в культурный код и симболарий идентичности. Главным средством идентификации субъекта культуры является естественный язык, поскольку он служит его самореф-лексии и стремлению отличаться от других субъектов. Человек, как правило, идентифицирует себя в разных аспектах, на основании чего можно говорить о возрастной, гендерной, профессиональной, конфессиональной, национальной, территориальной и др. видах идентичности личности [Кон, 1984, с. 28–29]. Субъект культуры вбирает в себя одновременно несколько типов идентичности. Она представляет собой стабильную структуру, отражающую архетипы человечества в целом и отдельного народа.
Изучение лингвокультурологических категорий осуществлялось прежде всего в когнитивно-семантическом аспекте. Полагаем, что расширению представлений об идентичности как лингвокультурологической категории будет способствовать ее рассмотрение в координатах прагматики, что соответствует ее природе, предполагающей передачу информации. Как заметил В.В. Воробьев, «сегодня настало время коммуникативной лингвокуль-турологии – авангардного научного направления» [Воробьев, 2024, с. 18]. Итак, целью настоящего исследования является описание идентичности как лингвокультурного феномена в прагматическом аспекте.
Материал и методы
Материалом исследования стали разнообразные культурно маркированные знаки русского языка, в том числе выполняющие роль символов, эталонов, оберегов, брендов, эмблем. Выбор единиц обусловлен их семантико-прагматическими особенностями, воплощенными в способности вербализатора выс- тупать средством идентичности. Анализу были подвергнуты лингвокультурные единицы общенародной и региональной (тульской) культуры, коррелирующие с разными культурными стратами.
Для достижения поставленной в работе цели применялись методы описания и семантико-прагматического анализа. Интерпретации подвергнуты отдельные компоненты единицы, а также ее культурно-коммуникативное назначение.
Результаты и обсуждение
Отправной точкой нашего исследования является тезис о том, что в основе идентичности лежит процесс коммуникации. Х. Куссе заявляет: «Культура – это коммуникация...» [Куссе, 2022, с. 53]. По законам существования знаковых систем, свойства целого могут быть экстраполированы на частное. Отсюда идентичность – составляющую системы культуры – можно рассматривать как коммуникативный процесс. В.В. Красных дает многоаспектное определение коммуникации: «процесс взаимодействия (с целью воздействия), в котором принадлежность человека тому или иному сообществу, с одной стороны, формируется, с другой – проявляется; это канал, среда и “средство-способ” бытия и трансляции культуры и лингвокультуры; канал, среда и инструмент формирования, проявления и реализации личности; инструмент формирования, сохранения, изменения сообщества» [Красных, 2016, с. 131]. Для рассмотрения идентичности как коммуникативного феномена в приведенной дефиниции важно, что в процессе коммуникации объективируется и формируется принадлежность субъекта к тому или иному сообществу, то есть осуществляется его идентификация с ним. Процесс коммуникации составляет онтологическую основу идентичности, заключающуюся в поиске ответа на вопрос, кто я. Идентичность проявляет себя в диалоге, форме коммуникации, предполагающей говорящего (в широком понимании этого слова) и слушающего, себя и другого. Данные элементы диалога порождают ситуацию значимости участвующих в нем субъектов культуры, выделяют в них интегральные и дифференциальные признаки, кото- рые будут учтены в ходе идентификации. Н.Д. Арутюнова отмечала, что человек «может означать, только если Другой способен воспринимать. <...> Благодаря существованию Другого человек способен вынести суждение о себе самом как об объекте. <...> Другой открывает мне меня» [Арутюнова, 1999, с. 647].
Для рассмотрения идентичности в прагматическом аспекте обратимся к модели коммуникации, предложенной Р. Якобсоном и доработанной Ю.М. Лотманом. Лотман говорил о двух видах коммуникации: внешней, предполагающей передачу информации от одного субъекта другому (модель Я → Он), и внутренней, автокоммуникации, связанной с передачей информации самому себе. Исследователь писал: «В системе “Я-ОН” переменными оказываются обрамляющие элементы модели... а постоянными – код и сообщение. Сообщение и содержащаяся в нем информация константны, меняется только носитель информации. В системе “Я-Я” он остается тем же, но сообщение в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл» [Лотман, 2000, с. 165]. Оба вида коммуникации воплощают природу идентичности.
Реализация внешней модели заключается в том, что лингвокультурная общность передает информацию о себе другим субъектам культуры. В качестве основных культурно ориентированных средств данного процесса выступают эмблемы, бренды. Данные знаки, которые мы рассматриваем как разновидности лингвокультурных единиц, служат само-презентации той или иной культуры, играют роль ее своеобразных меток [Токарев, 2023, с. 36]. Так, номинации Тулы самоварная / пряничная / оружейная столица выступают в роли эмблем и сообщают другим субъектам культуры, что Тула – главный город в России по производству соответствующей продукции. Миссией данных лингвокультурных знаков является выделение Тулы из других административных центров России, обеспечение ее узнаваемости. Номинации тульский сахар, белевская пастила, филимоновская игрушка и др. выполняют функцию брендов, миссия которых заключается в презентации объектов, свойственных данному региону. Внешний способ передачи информации обусловлен определением места говорящего в коммуникатив- ном пространстве, формированием мнения о себе в сознании иных субъектов культуры.
Внутренняя модель коммуникации заключается в передаче информации самому себе. Характеризуя автокоммуникацию, Ю.М. Лотман писал: «В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма широкий круг культурных функций от необходимого человеку в определенных типах культуры ощущения своего отдельного бытия до самопознания и аутопсихотерапии» [Лотман, 2000, с. 172]. Для данного вида коммуникации актуальна хронологическая характеристика, при которой процесс обмена информацией может быть рассмотрен в диахроническом и синхроническом аспектах. В первом случае знания передаются от поколения к поколению одной лингвокультурной группы. Такая коммуникация обеспечивает стабильность ментальных структур, формирующих идентичность сообщества, следование сложившимся ценностям и архетипам. Передача информации происходит прежде всего посредством массива прецедентных текстов культуры. Так, представления о туляке как мастеровом человеке транслируются в сказе «Левша» Н.С. Лескова, очерках «Нравы Растеряевой улицы» Г.И. Успенского, в «Легендах о мастере Тычке» И. Панькина и других прецедентных текстах. Во втором случае автокоммуникация осуществляется в актуальном времени и служит укреплению сформированных автостереотипов. Данный вид коммуникации актуализирует регулятивную функцию идентичности, обеспечивая нормативность культуры. Ведущими средствами, используемыми в регуляции жизнедеятельности своих, выступают эталоны, символы, меры, обереги [Токарев, 2023, с. 36]. Например, символы выражают принципы, значимые и понятные данному субъекту культуры. Грабли символизируют ошибку, возмездие за беспечность, самоуверенность, невнимательность ( стать на одни и те же грабли ), каравай – богатство ( заработанный ломоть лучше краденого каравая ), березовая каша – наказание ( задать березовой каши ). Символы и обереги воплощают линии поведения, актуальные для определенного лингвокультурного сообщества. Так, в сообществе русских людей нежелательно хвастаться своими успеха-
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ми, рассказывать о благополучии, поэтому принято использовать обереги, помогающие уйти от прямого ответа на вопрос: как дела : дела идут, контора пишет ; как в Польше: у кого телега, тот и пан ; делов, как дров ; как сажа бела ; дела у прокурора [Бондаренко, 2013, с. 128–130]. Приведенные выше лингвокультурные единицы включены в актуальный прагматический симболарий, которым пользуются свои в обыденной жизни. Они являются средствами кода культуры.
К.М. Хоруженко в числе существенных признаков идентичности называет устойчивость [Хоруженко, 1997, с. 161], что подтверждается стабильностью ее симболария и тезауруса. Однако культура, реализуя обе рассмотренные модели, может импортировать новые принципы, ценности, генерировать или заимствовать иной симболарий для их выражения, то есть искать новую идентичность. В этом случае происходит ее трансформация. Так, в начале XX в. в русской культуре меняются идеологемы, актуализируется новый симболарий, что находит отражение в процессах антропонимизации, топонимизации, неоло-гизации. Поиск иной идентичности воплощается в популяризации новых имен собственных: Тракторина, Вилена, Даздраперма и т. д., в переименовании географических объектов: так, в Туле, как и других городах Советской России, появились другие названия старых улиц – Коммунаров, Ленина, Энгельса, Маркса, Либкнехта и др. Поиск новой идентичности осуществлялся в период пандемии COVID-19. «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» включает около 3 500 слов, которые отражают когнитивный поиск субъекта культуры в новых условиях, тактики само-осмысления [Словарь русского языка коронавирусной эпохи, 2021]: безмасочник, беспер-чаточник, гречник ‘о том, кто в период пандемии поддается панике и закупает впрок товары первой необходимости и продукты длительного хранения’, зум-русалка ‘об участнике сеанса видео-конференц-связи (обычно с использованием сервиса Zoom), сочетающем в одежде элементы разных стилей: официального – для видимой на экране части, неофициального – для невидимой на экране части’. Степень такой культурной реновации, как показывает история, может быть разной, но не абсолютной, поскольку культурная память бережно хранит аксиологию предыдущих культурных парадигм. Приведенные примеры подтверждают, что естественный язык является основным средством объективации процессов самоидентификации.
В коммуникативном аспекте процесс идентификации может быть представлен как комплекс содержательных составляющих [Пеше, 1999, с. 322]. Применительно к объекту нашего исследования актуальны следующие их виды:
-
1) представления субъекта культуры о себе. Они содержат информацию, отвечающую на вопросы: кто я таков? что я хочу, чтобы знали обо мне? Данный блок формируют автостереотипы, то есть устойчивые знания субъекта о себе;
-
2) представления субъекта о другом субъекте культуры (кто он таков, чтобы я ему передавал информацию о себе? что он уже может знать обо мне?);
-
3) целеустановки (зачем я это сообщаю другому? что я хочу, чтобы он знал?);
-
4) культурный код (система принципов, способов и средств передачи информации);
-
5) содержание сообщения.
Остановимся на каждой содержательной составляющей.
Представления о себе объективируются разнообразными средствами, среди которых особое место занимают эталоны лингво-культуры – единицы, воплощающие автостереотипы, стандартные мнения о собственных свойствах и качествах [Токарев, 2021, с. 17]. Среди эталонов можно выделить единицы, выражающие представления о внешнем виде человека, его физиологических особенностях (зрение, слух, рост, вес), социальной оценке, психологических способностях: осетр ‘важное лицо, персона, особа’, квашня ‘медлительный, малоподвижный человек’, колпак ‘простак, недалекий, недогадливый человек’. Попытки обобщить автостереотипы можно найти в специальных словарях. Так, В.Г. Крысь-ко в «Этнопсихологическом словаре» воссоздает стереотипный портрет русского человека, в котором исследователь выделяет следующие черты: человеколюбие и терпимость, высокая гражданская солидарность, готовность прийти на помощь, общительность, доб- рожелательность, храбрость, мужество, неприхотливость и старательность, трудолюбие, гостеприимство, леность, несобранность, прожектерство, неумение, а иногда и нежелания доводить начатое дело до конца [Крысько]. Т.В. Углова подчеркивает связь автостереотипов с национальной концептосферой: «...этнический автостереотип является проявлением национального самосознания» [Углова, 2017, с. 62]. Тем самым эталоны – результат сапопостижения, самоанализа, самохаракте-ризации. В.В. Ильюшкин, говоря о схематичном содержании автостереотипов, считает, что они всегда формируют положительных образ субъекта культуры: «Автостереотипы – это характеристики собственной этнической группы, осознающиеся в виде специфических образов, мнений, суждений, оценок, относимых к своей общности, ее представителям, имеющие тенденцию, прежде всего к благоприятной оценке. При этом формируется упрощенный образ своего народа, щедро наделенного умом, трудолюбием храбростью, миролюбием и так далее» [Ильюшкин, 2015, с. 27]. С этим утверждением нельзя полностью согласиться. Так, эталоны выражают не только положительную, но и отрицательную оценочность: столб ‘недалекий, тупой и бесчувственный человек’, кукушка ‘женщина, бросившая детей’, обсевок в поле ‘человек второго сорта’ и др. Как следует из примеров, в объективации автостереотипов огромную роль играет образное основание, отражающее культурный опыт лингвокультурной группы.
Эталоны можно отнести к единицам преимущественно «внутреннего пользования» культуры (за исключением заимствованных, интернациональных единиц), поскольку они создаются внутри нее и нужны в первую очередь «своим» для самопрезентации. «Чужие» могут допустить ошибочную их интерпретацию. Так, заяц и медведь в русской культуре объективируют иные эталоны, нежели в немецкой и т. п. Особую группу представляют прецедентные имена, введенные в культурный фокус повседневным, литературным, общественно-политическим дискурсами. Более четко идентифицирующая миссия данных средств просматривается в региональных культурах. Так, фамилии Белоусова, Гумилевской, Дрейера, Смидови-ча – выдающихся тульских врачей – стали пре- цедентными в локальной субкультуре и служат выражению представлений об эталоне интеллигента, преданного своему делу. Представителями иных региональных субкультур эти имена не прочитываются как знаковые. Непонимание культурных смыслов также воплощает коммуникативную природу идентичности в ее дефектном, неуспешном варианте. Многообразие знаний аспектуализируется в виде типажей той или иной лингвокультуры [Аксиологическая лингвистика..., 2005]. Так, в недрах тульской культуры был сформирован типаж рабочего Тульского оружейного завода – казю-ка, считавшего себя хозяином города. Механизмом функционирования культуры является постоянная идентификация знания, его сканирование на наличие признаков своего, аспекту-ализация в разных семиотических образованиях. Представления о себе воплощаются в публицистических, философско-этических текстах, в которых осуществляется попытка унификации представлений о национальном характере, например труд Д.С. Лихачева «Заметки о русском», Н.О. Лосского «Характер русского народа», А.Н. Толстого «Русский характер» и др. Знания о себе формируют тезаурус, таксоны которого выступают в роли пресуппозиций коммуникативных практик.
Характеризуя представления субъекта о другом субъекте культуры, следует отметить, что они оценочны. Несмотря на то, что многие историки, филологи, культурологи отмечают такие черты характера русского человека, как толерантность, открытость иным культурам, добрососедство и подобные, многие эталонные номинации чужого включают в состав семем пейоративные семы, что обусловлено исторической памятью, восприятием своего образа жизни как правильного. При этом субъект русской лингвокультурной общности демонстрирует доброжелательность и желание гармонично сосуществовать. В качестве подтверждающего этот тезис примера можно привести стихотворение А. Блока «Скифы»:
Придите к нам! От ужасов войны Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем – братья!
Основной целеустановкой идентификации становится объяснение собеседнику, кем яв- ляется адресант, в чем его особенности. Данная целеустановка определяет содержание информации.
Базой идентичности выступает культурный код. В нашем понимании он играет роль «принципа образования, использования и интерпретации знаков различных языков культуры, извлеченных из текстов» [Токарев, 2021, с. 53]. Он включает систему знаний о мире, принципы и способы их категоризации и алгоритмы интерпретации. Культурный код находит свое выражение в симболарии [Телия, 1999, с. 21] идентичности и текстах, в которых она воплощается. Он отражает образ и способ мышления, самоощущения субъекта культуры.
Заключение
Итак, идентичность может быть рассмотрена как лингвокультурологическая категория в координатах прагматики. В основе данного явления лежит процесс коммуникации, включающий, с одной стороны, самопос-тижение субъекта культуры, с другой – передачу информации о себе другим субъектам культуры. Данный процесс может протекать по модели внешней или внутренней коммуникации. Каждый из заданных процессов использует приемлемые лингвокультурные средства. Внешняя коммуникация – эмблемы, бренды, внутренняя – эталоны, символы, обереги. Идентичность имеет преимущественно стабильный характер, что объясняется приверженностью ее носителя одному культурному коду и тезаурусу. Однако оба вида коммуникации допускают трансформацию, в ходе которой лингвокультура меняет идеологию, использует новый симболарий, ищет иную идентичность. Процесс идентификации может быть представлен в виде составляющих, среди которых можно выделить представления субъекта о себе, о другом, цели коммуникации, культурный код и содержание сообщения.
Список литературы Прагматическая природа идентичности как лингвокультурологической категории
- Аксиологическая лингвистика. Лингвокультурные типажи: сб. науч. тр., 2005 / под ред. В. И. Карасика. Волгоград: Парадигма. 310 с.
- Арутюнова Н. Д., 1999. Язык и мир человека. М.: Яз. рус. культуры. 896 с.
- Ассман Я., 2004. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Яз. слав. культуры. 368 с.
- Бондаренко В. Т., 2013. Ответные реплики в русской диалогической речи. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 339 с.
- Воробьев В. В., 2024. Коммуникативная лингвокультурология – авангардное направление в XXI веке // Лингвокультурологические чтения: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., провед. в рамках I Междунар. лингвокультурол. форума «Лингвокультурология и коммуникативная реальность XXI века: новые вызовы – новое осмысление» (Москва, РУДН, 19–20 октября 2023 г.) / под ред. В. В. Воробьева, М. Л. Новиковой, Д. С. Скнарева. М.: РУДН. С. 17–22.
- Ильюшкин В. В., 2015. Автостереотипы как проявление национальных и этнических стереотипов // Academy. № 1 (1). С. 27–28.
- Карасик В. И., 2020. Языковые картины бытия. М.: Ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. 468 с.
- Кон И. С., 1984. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М.: Политиздат. 336 с.
- Красных В. В., 2016. Словарь и грамматика лингвокультуры. М.: Гнозис. 496 с.
- Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь. URL: http://cult-lib.ru
- Куссе Х., 2022. Культуроведческая лингвистика. М.: Гнозис. 536 с.
- Лаппо М. А., 2013. Самоидентификация: семантика, прагматика, языковые ресурсы. Новосибирск: Изд-во НГПУ. 180 с.
- Лотман Ю. М., 2000. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб. 704 с.
- Пеше М., 1999. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс. С. 302–336.
- Словарь русского языка коронавирусной эпохи, 2021. СПб.: ИЛИ РАН. 550 с.
- Телия В. Н., 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Яз. рус. культуры. 287 с.
- Телия В. Н., 1999. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Яз. рус. культуры. С. 13–24.
- Токарев Г. В., 2021. Лингвокультурный симболарий: квазисимволы. Тула: ТППО. 114 с.
- Токарев Г. В., 2023. Проблемы изучения симболария региональной идентичности. Тула: ТППО. 168 с.
- Углова Т. В., 2017. Этнический автостереотип как проявление национального самосознания // Вестник Новгородского государственного университета. № 1 (99). С. 61–64.
- Хоруженко К. М., 1997. Культурология: энцикл. слов. Ростов н/Д: Феникс. 640 с.