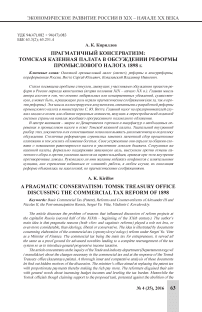Прагматичный консерватизм: Томская казенная палата в обсуждении реформы промыслового налога 1898 г
Автор: Кириллов Алексей Константинович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России в XIX - начале XX века
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме стимулов, движущих участниками обсуждения проектов реформ в России периода капитализма (вторая половина XIX - начало XX в.). Главная мысль автора состоит в том, что помимо либеральных или консервативных убеждений, существенную, а может быть, и решающую роль играли прагматические соображения (как за, так и против реформы). Эта мысль иллюстрируется документами, связанными с разработкой реформы промыслового налога в министерство С. Ю. Витте. Главный налог на предпринимателей служил заодно и полем для обкатки передовых новшеств, ведущих к перестройке всей податной системы страны на началах всеобщего прогрессивного подоходного обложения. В центре внимания - запрос из Департамента торговли и мануфактур о необходимых переменах в промысловом налоге и ответ Томской казенной палаты. Тщательный внутренний разбор этих документов и их сопоставление позволили выявить дипломатическую подоплеку обсуждения. Столичные реформаторы стремились заменить патентный сбор процентными платежами и тем усилить обложение богатых. Свое устремление они скрыли за общими словами о повышении равномерности налога и увеличении доходов бюджета. Сотрудники же казенной палаты, формально поддерживая заявленную цель, выступили против отмены патентного сбора и против усиления налогов на первогильдейцев, приведя при этом внутренне противоречивые доводы. Руководило ли ими желание избежать конфликтов с влиятельными купцами, или стремление избавиться от «лишней» работы, в любом случае, их оппозиция реформе объяснялась не идеологией, но прагматическими соображениями.
Основной промысловый налог (патент), реформы и контрреформы, пореформенная Россия, витте сергей юльевич, ковалевский владимир иванович
Короткий адрес: https://sciup.org/14723828
IDR: 14723828 | УДК: 94(47).082
Текст научной статьи Прагматичный консерватизм: Томская казенная палата в обсуждении реформы промыслового налога 1898 г
The article discusses the problem of reasons that influenced discussion of reform projects at the capitalist Russia (second half of the XIXth – beginning of the XXth century). The author’s main idea is that pragmatic reasons (both «for» and «against» reforms) played a role not less, or even more considerable, than ideology, liberal or conservative. The idea is illustrated by documents concerning elaboration ofthe commercial tax («promyslovyi nalog») reform under Sergei Yu. Vitte as a Minister of Finance. The commercial tax being the main tax for entrepreneurs, it served all the same as a proofground for advanced novelties leading to a complete rearrangement ofthe tax system so as to introduce generalprogressive income taxation.
The article concentrates atthe inquiry ofthe Trade andindustry department(Departamenttorgovli i manufaktur) about the changes necessary in the commercial tax and at the response ofthe Tomsk Treasury office (kazennaya palata). A thorough inner and comparative analysis ofthese documents let find out hidden motives ofthe discussion. The minister’s office aimed at replacing the patent tax with proportionate payments thereby making the richpay more. The reformers disguised their aim with general words about increasing budget incomes and leveling the tax burden. Meanwhile the Tomsk officials though claiming support to the proposed task, protested against the abolition ofthe patent as well as against increasing tax pressure at the rich merchants, stating by that contradictory reasons. Whether they were drawn by desire to avoid conflicts with influential merchants or by the will to get rid of«redundant» work, in any case their opposition to the reform should be explained not by ideology but by pragmatic considerations.
«Ни один налог не извел меня до такой степени, как промысловый, вследствие той постоянной оппозиции, с которою приходилось тут бороться и в министерстве, и в совещаниях, и в Государственной думе», – так высказывался Н. Н. Покровский о своей деятельности в качестве директора Департамента окладных сборов, а затем и товарища министра финансов [9, с. 110]. Оценка относится к периоду с 1905 г., но описывает положение дел в течение более долгого времени.
Реформирование промыслового налога началось еще в 1863 г. и продолжалось до 1917 г. включительно [6, с. 173–288; 11, с. 127–152]. Промысловый налог, не грозящий «благородному сословию», был полигоном для обкатки новшеств, приближающих воплощение принципа: кто богаче, тот больше платит. Именно в промысловом налоге при Н. Х. Бунге были введены податные присутствия, распространенные затем и на другие ключевые налоги. Тогда же был введен дополнительный промысловый налог, взимаемый в процентах от прибыли. Началась борьба за устранение основного промыслового налога – промыслового свидетельства, или патента. И от богатых, и от бедных предпринимателей, оказавшихся по формальным признакам в одной группе, выборка патента требовала уплаты одной суммы – и значит, налог был не только не прогрессивным (а как раз в 1893 г. был учрежден первый прогрессивный налог – квартирный), но даже и не равномерным; богатый отдавал меньшую долю своей прибыли, чем бедный. Это очевидным образом ограничивало рост поступлений в казну. Вопрос об отмене патента ставился Министерством финансов неоднократно, но патент сохранился даже по реформе 1917 г. [8]. Это побуждает обратить дополнительное внимание на разработку реформ.
Единственная после Н. Х. Бунге реформа промыслового налога при царской власти, с принятием даже нового Положения, состоялась в 1898 г. после пятилетней разработки. В отличие от реформы 1885 г., подготовка которой исследована довольно подробно [1*], разработка реформы 1898 г. не удостоилась специального изучения. Тем не менее основные сведения о подготовке Положения 1898 г. известны – благодаря классической монографии Л. Е. Шепелева [12, с. 226–229]. Подчеркивая фискальный интерес министра финансов С. Ю. Витте к этой реформе, автор указывает и ключевую проблему, которую пыталось устранить руководство Минфина. «Неуравнительность» патента не позволяла налогу обеспечить рост доходов казны в соответствии с ростом промышленности и побуждала ставить вопрос о его (патента) отмене. Из книги Шепелева мы знаем также, что эта реформа не избегла обычных для своего времени этапов законотворческого процесса. Собрав в 1893 г. мнения управляющих казенными палатами, столичные чиновники затем создали межведомственную комиссию с участием общественных представителей; разработанный ею проект был снова направлен казенным палатам, по их отзывам исправлен, вновь обсужден в комиссии, разослан по заинтересованным ведомствам, и с учетом их мнений в феврале 1898 г. предложен в Госсовет, где и одобрен.
Реформа состоялась. Но по ходу ее подготовки выпала ключевая деталь. Патент сохранился, и это была уступка со стороны реформаторов. Чем была вынуждена эта уступка, помогает понять обмен документами, отложившийся в фонде Томской казенной палаты [4].
Не считая сопроводительного письма, все дело состоит лишь из трех документов – департаментский запрос, ответ па- латы (чистовик с небольшой последней правкой, оставленный в качестве отпуска) и черновик этого же ответа*. Запрос подписал лично Владимир Иванович Ковалевский, свежеиспеченный директор Департамента торговли и мануфактур (именно этот департамент ведал во 2-й половине XIX в. и торгово-промышленным налогообложением). К руководству промышленной политикой Ковалевского привлек новый министр финансов С. Ю. Витте, полагавший его «человеком замечательно талантливым». Несколько ранее, в министерство Н. Х. Бунге, Ковалевский руководил одним из отделений Департамента окладных сборов: следовательно, опыт позволял ему понимать роль промыслового налога не только в определении отношений государства с предпринимателями, но и в преобразовании всей податной системы страны.
Датированное 8 марта 1893 г. отношение В. И. Ковалевского в адрес председателя Томской казенной палаты М. А. Гилярова отпечатано типографским способом, с оставлением лишь пропусков для имени-отчества и титула. Ясно, что оно рассылалось, по меньшей мере, десяткам председателей казенных палат. По давно сложившейся практике, реформаторы пытались представить свои предложения как воплощение требований снизу.
Сообщая казенной палате о создании в ноябре 1892 г. «комиссии для общего пересмотра узаконений, относящихся до обложения торговли и промышленности», Ковалевский просил представить соображения по теме работы комиссии. Перечислив ряд частных вопросов, он в заключение просил рассмотреть этот предмет «возможно всесторонне, не ограничиваясь поставленными выше вопросами» [4, л. 2].
Отношение 8 марта 1893 г. несет гриф «совершенно доверительно». Столичные реформаторы явно не хотели, чтобы слухи о предстоящей реформе распространились прежде времени. Не ограничиваясь этой мерой предосторожности, авторы отноше- ния постарались сделать его возможно более обтекаемым. Давая понять, к чему клонят, они, тем не менее, не называли вещи своими именами. Однако томичи отлично их поняли.
Расплывчатым понятием «томичи» нам придется пользоваться, поскольку непосредственный автор отправленного в мае 1893 г. ответа неизвестен. Адресат «совершенно доверительного» письма, Михаил Алексеевич Гиляров, почетный гражданин Томска, стоявший во главе местной казенной палаты более четверти века, уже заканчивал свой жизненный путь и по болезни не принял участие в разработке ответа. Документ ушел за неразборчивой подписью одного из начальников отделений, уклонившегося от единоличной ответственности («Казенная палата, составив с возможною поспешностью требуемые Вам соображения, имеет честь представить их»...) [4, л. 3].
Основная часть девяти пунктов, сформулированных в письме Ковалевского, содержит достаточно точные вопросы, направленные на шлифовку существующих правил. (Например, в первом пункте спрашивается, какие из торгово-промышленных действий, ныне освобожденных от выборки промысловых свидетельств, могли бы быть привлечены к обложению). Однако вопрос № 5 выделяется по своему значению. «Признаете ли Вы необходимым подвергнуть коренному пересмотру нынешнее Положение о пошлинах за право торговли и промыслов, с целью упрощения действующего порядка обложения, а равно для установления большего соответствия между обложением <...> и доходностью предприятия» [4, л. 1 об.].
Расплывчатую формулу об «упрощении» и «большем соответствии доходности» томичи «перевели с русского на русский» совершенно определенно. Читаем ответ: «Отменить выдачу документов 1-й и 2-й гильдий значит упразднить целое сословие в империи». В запросе Ковалевского эта формулировка – отмена гильдейских свидетельств (патентов) – не встречается ни разу. Но томичи прекрасно поняли эвфемизм, тем самым подчеркнув то, что могло бы иначе быть не очевидно для нас: геркулесов подвиг, на который в очередной раз замахнулись столичные реформаторы в 1892 г., стоял на повестке дня давно.
Для чего департаменту потребовалось маскировать свой замысел? Ответ на этот вопрос виден из следующего пункта (№ 6). Возможно ли заменить раскладочным сбором «часть сумм, поступающих в виде пошлин за право торговли и промыслов, путем постепенного уменьшения окладов пошлин за торговые документы» – так ставился вопрос. Вопрос, очевидно, не имел бы смысла, если бы реформаторы рассчитывали добиться того, что подразумевалось в пункте 5. Но они на это не полагались и просчитывали запасной вариант: если полностью отменить патент не удастся, то хотя бы – уменьшить его роль.
Ни тот, ни другой вариант не вызвал сочувствия у сотрудников казенной палаты – и не оставил их равнодушными. Составленный в целом вполне прозаично, томский ответ при обсуждении 5-го пункта становится образным, как литературное произведение. Отменять патент «значило бы ломать здание, просуществовавшее чуть не два века» – читаем в черновике томского ответа [4, л. 6]. В чистовике это место дополнительно подцвечено риторически: «... здание, просуществовавшее чуть не два века (с 1721 года) – здание, в котором жили и живут десятки тысяч деятельных, предприимчивых граждан. Теперь купцы дорожат и гордятся своими гильдиями» [4, л. 12].
Продолжая филиппику против отмены патента, томичи пишут: «Если коренной пересмотр Положения о торговых пошлинах имеет в виду достигнуть большего соответствия между обложением торговцев и размерами и доходностью их предприятий, то в настоящее время цель эта вполне до- статочно* достигается раскладочным сбором. Члены окруж[ных] податных присутствий хорошо знают дела друг друга и при раскладке дополнительного налога всегда принимают в соображение, кто какую гильдию платит, и где содержит свои торговопромышленные предприятия, и стараются, чтобы обложение было вполне соразмерно с доходностью предприятий» [4, л. 6]. Эта же мысль повторяется и при ответе на 6-й пункт письма Ковалевского, где речь шла об уменьшении цены патента. Томичи вновь отлично видят подтекст этого предложения (неравномерность патента) и вновь делают вид, что эта проблема решена: неравномерность «теперь прекрасно устраняется» раскладочным сбором.
Настойчивое утверждение казенной палаты о том, что неравномерность патента устраняется раскладочным сбором, весьма важно для нас. Дело в том, что оно заведомо неверно. Даже если считать, что раскладочный сбор распределялся присутствиями сообразно действительной прибыли, сам этот сбор являл собою лишь прибавку к основному промысловому налогу, к патенту. И размер его устанавливался на уровне 1–2 % суммарной прибыли предприятий участка. Притом основной промысловый налог забирал у беднейших плательщиков раскладочного сбора до 15 %, а у самых богатых – лишь доли процента прибыли. Даже с учетом раскладочного сбора относительная тяжесть обложения слабейших предприятий в разы (а то и на порядок) превосходила тяжесть обложения сильнейших**. Не знать этого казенная палата не могла, ведь на ней лежали и общий надзор за взиманием промыслового налога, и раскладка дополнительного сбора между податными участками.
Использование заведомо несостоятельного тезиса о том, что патент уравновешивается раскладкой, указывает на то, что и казенная палата не говорит прямо то, что ду- мает. Формально принимая риторику автора запроса (сделать налог более полезным для казны, а нагрузку на предпринимателей – более равномерной), томичи на самом деле стремятся к чему-то другому. То, что написано в ответе на запрос – лишь довод; каков же действительный резон палаты?
Здесь уместно вновь обратиться к воспоминаниям Н. Н. Покровского. В них ничего нет именно про 1890-е гг. и именно про Томскую казенную палату, зато есть то, чего не найдешь в департаментских документах: взгляд человека, знающего дело изнутри и уже не скованного необходимостью хранить корпоративные секреты. Вот как бывший директор Департамента окладных сборов описывает события второго пятилетия XX в.: «Мы решились поэтому поставить ребром вопрос о совершенной отмене патентного сбора для всех вообще предприятий, кроме таких мелких заведений, для которых невозможно исчислить ни оборотов, ни прибылей. Но тут пришлось встретить самую жестокую оппозицию и притом одновременно с двух сторон: промышленников и торговцев – с одной, и членов финансового управления – с другой». Не отвлекаясь в данном случае на объяснение позиции промышленников и торговцев (очевидно, что речь идет о крупных предпринимателях, которым такая реформа сулила несомненный ущерб), автор переходит сразу к своим коллегам. «Последние, в лице многих, даже скажу, большинства управляющих казенными палатами и податных инспекторов, возражали с чисто финансовой точки зрения: (1) что обращение патентного сбора в окладной с прибылей не будет обеспечивать правильного его поступления; (2) что каждый торговец и промышленник охотно выбирает патент, чтобы иметь право торговли или производства промысла, и выбирает его до наступления года; что, наконец, (3) определение класса или разряда предприятия много проще и для фиска, и для плательщика, нежели исчисление прибылей» [9, с. 107–108].
Повторюсь, Н. Н. Покровский ведет речь о проекте 1906 г. Но и в середине 1890-х гг. местные чиновники как минимум не были едины. С одной стороны, известно, что отдельные казенные палаты деятельно поддержали руководство министерства. Как указывает А. Л. Дмитриев, составленный в 1893 г. «Исторический очерк обложения торговли и промыслов в России» заведующего Варшавской казенной палатой И. Я. Рудченко даже вошел составной частью в представление проекта 1898 г. для Госсовета [5, с. 20]. Реформаторское настроение господствовало и в Тобольской казенной палате. В фонде Департамента окладных сборов сохранилась записка начальника отделения Тобольской казенной палаты Меньшенина (писанная, судя по содержанию, между реформами 1885 и 1898 гг.). Автор ее не просто критикует промысловый патент, но предлагает самостоятельные решения этой проблемы [10, л. 1–25]. Обстоятельная и даже довольно резкая критика «того безобразного туловища, о котором так метко сказано в трактате академика Янжула «Финансовое право» по поводу закона 1885 г.» велась и низовыми сотрудниками палаты на съезде податных инспекторов Тобольской губернии 1902 г. [3, л. 46–58].
Но так было не везде. Уместно здесь вспомнить отзыв В. И. Ковалевского, который аттестовал казенные палаты 1880-х гг. как «архаические учреждения времен Екатерины II» и рассказывал смешные истории про встреченных им «чиновников гоголевского типа» [2, с. 30]. Томская казенная палата с ее возражениями оказалась в ряду многих, если не большинства, стоявших по другую сторону баррикады – заодно с крупными купцами. Мы видели, что Н. Н. Покровский, поседевший в чиновных коридорах и потому авторитетный в суждениях об аппаратных настроениях, полагал причиной оппозиции чиновников «чисто финансовые» соображения. Их можно перефразировать так: опасения насчет возможного ущерба казне (1), уверенность в достаточности существующей системы (2), стремление отказаться от излишней работы (3). Сверим эти соображения с теми доводами, которые приводит Томская казенная палата.
Один из доводов совпадает. О привычке купцов к патентам (столь сильной, что в нужное время они сами несут в казну деньги и берут правильные свидетельства), в черновике томского ответа сказано даже трижды (оба повтора при доработке вычеркнуты) [4, л. 6–6 об.]. Но томичи не пишут о возможном сокращении поступлений при новой системе (что логично, раз они выставляют столь совершенной работу раскладочных присутствий). Не приводится и довод о простоте старой системы (что опять же логично, раз существующие методы определения прибыли они называют достоверными). Их возражение против реформы сводится к выступлению против перемен на том основании, что и действующая система неплохо работает. Остается поле для сомнения: действительно ли во главе угла для томичей стояли «чисто финансовые» соображения, или местные финансисты, связанные личными знакомствами с миром капитала, старались сыграть на руку крупным купцам?
Для размышления над этим вопросом полезно рассмотреть томский ответ не только на 5-й и 6-й пункты, о которых шла речь до сих пор, но и на другие вопросы письма В. И. Ковалевского. В большинстве своем эти ответы содержат предложения об увеличении сборов с предпринимателей. Так, томичи предлагали отменить льготу, предоставленную мещанам-ремесленникам: «мещане – единственное сословие в империи, свободное от всяких налогов в пользу казны. Платят они сборы только в доход города, но и то ничтожные в сравнении с другими сословиями» [4, л. 10–10 об.]. Предлагали изменения в «росписях Е и Ж», имеющие целью не допускать среднюю гильдейскую торговлю (с оборотом по 10–20 тыс. руб в год) по свидетельствам на мелочный торг. Для такого маневра высокодоходным профильным магазинам (торгующим, например, посудой или кожевенными товарами, или железными изделиями) достаточно было хранить небольшой запас других товаров.
Еще одно лыко в ту же строку – предложение казенной палаты привлечь к платежу налога перекупщиков-прасолов, что скупают товары у крестьян и продают «на рынках, пристанях, берегах рек, постоялых дворах, на сельских базарах, ярмарках, так как подобными лицами этот торг ведется в более значительных размерах и с большею выгодою, чем торгующими из помещений» [4, л. 9]. Речь идет, таким образом, о торговцах, конкурирующих с торговлей 2–3-го разряда. Неравнодушное отношение к ним автора выдает не совсем точная приписка о том, что «народ присвоил им характерные названия барышников, кулаков-мироедов, т. е. убытка они не знают, а барыш имеют верный». Заодно томичи предложили привлечь к обложению и мелкие (семидневные) ярмарки, которые в отличие от крупных по действующему закону налогам не подлежали.
Наконец, казенная палата отвергла департаментское предложение освободить самые мелкие предприятия от пошлин. «Слабые и малодоходные или клонящиеся к упадку» предприятия, – отвечали томичи, – и без того, по усмотрению раскладочных присутствий, «не вводятся в раскладку». Правда, они должны все-таки платить от 3 до 10 руб. за патент, но это справедливо: «если предприятия эти существуют, значит, хозяевам есть расчет содержать их» – следовательно, должны платить [4, л. 15].
Целая серия предложений и мнений томичей, таким образом, создает им образ ревностных борцов за доходы казны, стремящихся перекрыть любые податные лазейки. Этот образ рушится, когда речь заходит о дополнительном обложении оптовиков. Такой вопрос был прямо поставлен в п. 5 письма В. И. Ковалевского (после намеков о «коренной реформе»). Ответ палаты: никаких изменений не нужно. Правда, как указывали томичи, нынешнее положение позволяет вести оптовую торговлю по свидетельствам 2-й гильдии, и казенная палата знает купцов, которые раз в год закупаются на Нижегородской или Ирбитской ярмарке*, а затем на местах распродают этот запас оп-
На самом деле, оптовики, снабжавшие Сибирь ирбитскими и нижегородскими товарами, закупались дважды в год – на осенней и зимней ярмарках. Говоря про закупки раз в год, палата явно стремилась занизить прибыль описываемой группы.
том розничным торговцам. Но заставлять их брать свидетельство 1-й гильдии нельзя, так как у них вся прибыль в год – тысячи полторы-две, 700-рублевое свидетельство они не потянут. «Им тогда жить нечем будет, и они вовсе должны будут прекратить свое дело» [4, л. 13]. Таким образом, как только речь от простых второгильдейцев перешла к настоящим тузам, палата позабыла свою заботу о наполнении казны и стала заботиться о благополучии торговцев. Что можно было бы объяснить интересами дела (нежелание «резать дойную корову»), если бы это не контрастировало с отношением той же палаты к мелким и средним торговцам.
Здесь же уместно назвать и еще одно предложение томичей. Ввиду быстрого развития торговли в Сибири и по всей стране со времен предыдущего Положения о промысловом налоге (1865) казенная палата предложила заменить деление страны на 5 классов делением на 3 класса, с тем чтобы даже наименее развитые местности повысить из 5-го класса в 3-й. Казалось бы, это означает всеобщее повышение платежей и служит знаком борьбы палаты за интересы казны вопреки интересам всех торговцев. Но надо учесть, что от класса местности зависела цена лишь более дешевых патентов: 2-го класса и ниже. Первогильдейские же свидетельства имели цену одинаковую по всей стране: значит, самых крупных купцов и эта мера не должна была затронуть.
Таким образом, вся совокупность доводов томичей позволяет если не доказать наверняка, то все-таки обосновать подозрения в их сугубом пристрастии к соблюдению ин- тересов крупных торговцев. По-видимому, возражения Томской казенной палаты против реформы строились не столько на технических соображениях, о которых говорит Н. Н. Покровский, сколько на желании потрафить авторитетным купцам. В таком случае не удивительно и то, что палата маскирует свои действительные мотивы.
Краткая история обмена отношениями между департаментом В. И. Ковалевского и Томской казенной палатой весной 1893 г. выводит нас на общие вопросы разработки реформ на том этапе, само название которого связано с реформами (пореформенная Россия). Подготовка реформ и контрреформ при последних трех императорах обычно рассматривается в контексте борьбы либеральных и консервативных настроений – и тому есть убедительные подтверждения. Но помимо идеологии есть и другая сила, существенно влиявшая на ход реформ: прагматические устремления. За реформу – стремление реформаторов обеспечить доходы государственного бюджета в условиях меняющейся экономики, меняющегося общества. Против – стремление местных чиновников избежать лишней работы и не поссориться с местными влиятельными людьми. Вероятно, в разных реформах идеологические и прагматические причины имели разный удельный вес. Мучительно постепенное развертывание самой долгой из «великих реформ» – растянувшейся на полвека податной реформы – определялось в меньшей мере политическими взглядами, в большей – прагматическими соображениями за и прагматическими же – против.
Список литературы Прагматичный консерватизм: Томская казенная палата в обсуждении реформы промыслового налога 1898 г
- Ананьич Н. И. К истории податных реформ 1880-х годов (Введение дополнительных сборов к промысловому налогу: 3-процентного и раскладочного)/Н. И. Ананьич//История СССР. -1979. -№ 1. -С. 159-173.
- Воспоминания В. И. Ковалевского //Русское прошлое: историко-документальный альманах. -1991. -№ 2. -С. 5-96.
- Государственный архив в г. Тобольске. -Ф. И-154. -Оп. 15. -Д. 226.
- Государственный архив Томской области. -Ф. Ф-196. -Оп. 3. -Д. 160.
- Дмитриев А. Л. Предисловие: налоговая политика в период министерства С. Ю. Витте/А. Л. Дмитриев//Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов: в 5 т. Т. 2. Налоги, бюджет и государственный долг России. -М.: Наука, 2003. -Кн. 1. -С. 16-38.
- Захаров В. Н. История налогов в России. IX -начало XX века/В. Н. Захаров, Ю. А. Петров, М. К. Шацилло. -М.: РОССПЭН, 2006.
- Кириллов А. К. «Сбор с излишка прибыли». Реформа промыслового налога при С. Ю. Витте: замысел и воплощение/А. К. Кириллов//Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. -2014. -№ 7-8. -С. 27-36.
- Кириллов А. К. Реформа промыслового налога 1917 г./А. К. Кириллов//Вопросы истории. -2011. -№ 12.
- Покровский Н. Н. Последний в Мариинском дворце. Воспоминания министра иностранных дел/Н. Н. Покровский. -М.: Новое литературное обозрение, 2015. .
- Российский государственный исторический архив. -Ф. 573. -Оп. 33. -Д. 531.
- Степанов В. Л. Н. Х. Бунге: судьба реформатора/В. Л. Степанов. -М.: РОССПЭН, 1998.
- Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Проблемы торгово-промышленной политики/Л. Е. Шепелев. -Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1981.