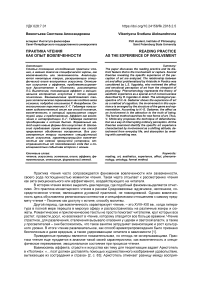Практика чтения как опыт вовлеченности
Автор: Викентьева Светлана Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию практики чтения, а именно такой ее специфической черты, как вовлеченность или захваченность. Анализируются некоторые теории, раскрывающие специфический опыт восприятия искусства. Отношения искусства и аффекта, проблематизированные Аристотелем в «Поэтике», рассмотрены Л.С. Выготским, понимающим аффект и эмоциональное восприятие искусства с точки зрения психологии. Феноменология представляет теорию эстетического переживания как особого акта сознания, подробно описанного Р. Ингарденом. Онтологическая перспектива Х.-Г. Гадамера показывает художественный опыт как способ познания, вовлеченность в который организуется структурой игры и представления. Аффект как вовлечение в интерпретации Х.-Г. Гадамера является приобщением к истине бытия. Формальный метод ищет новые формы для искусства: В. Шкловский предлагает прием отстранения как способ прерывания обыденного восприятия. Все рассмотренные теории выявляют специфический опыт искусства, характеризующийся вовлеченностью как сменой привычной установки, отстраненностью от повседневного хода дел и поглощенностью событием встречи с новым.
Чтение, искусство, эстетика, опыт, аффект, феноменология, онтология, формальный метод
Короткий адрес: https://sciup.org/14941444
IDR: 14941444 | УДК: 028:7.01 | DOI: 10.24158/fik.2018.2.5
Текст научной статьи Практика чтения как опыт вовлеченности
Практика чтения часто сопровождается феноменом вовлеченности или захваченности, своего рода поглощенностью моментом чтения. Такая черта отсылает к рассмотрению чтения как акта эмоционального или аффективного, воздействующего на читателя.
В истории чтения можно выделить два периода, где подобный феномен выделяется отчетливо. Это практика монастырского чтения в раннем Средневековье: вдумчивое, неспешное, сосредоточенное чтение, являющееся духовной практикой, не повседневной. Однако вовлеченность здесь обусловлена религиозным контекстом и специфическим отношением к самому предмету чтения – Писанию как доступу к истине, способу молитвы.
Другой период, где вовлеченность характеризует чтение, – это XVIII–XIX вв., когда литература в полной мере перешла в мирскую сферу и распространилась на различные жанры и сюжеты. Романтические и приключенческие тексты не просто помогают читателям, круг которых все растет, провести досуг, но вовлекают в чтение, которому отводится все больше времени. Чтение страстное, для развлечения, отвлечения вызывало опасения у церкви и светской власти, а также у просветителей – они беспокоились, что такое занятие затрудняет эмансипацию и рост культурного уровня. В итоге чтение развлекательное, как способ времяпрепровождения было признано бесполезным и даже вредным, а также удерживающим читателя в зависимости [1].
Приведенные примеры являются показательными, но отнюдь не исчерпывающими. Практика чтения еще нуждается в анализе такой своей характеристики, как вовлеченность и специфическое переживание, эмоциональное состояние при процессе чтения.
Взаимосвязь аффекта, страсти и искусства как тему для теоретизации задает Аристотель в «Поэтике»: «…поэт должен доставлять помощью художественного изображения удовольствие, вытекающее из сострадания и страха» [2, с. 83]. Аристотель отмечает разницу между восприя- тием вещей в реальности и восприятием их изображений, вплоть до противопоставления вызываемой ими эмоции. Так возникает дискурс о специфическом опыте искусства, изменяющем реальность, отношение к ней или ее переживание.
Н.М. Савченкова в монографии «Альтернативные стили чувственности: идиосинкразия и катастрофа» анализирует теорию трагедии из «Поэтики» Аристотеля, в том числе специфическое трагическое удовольствие: в трагедии «мы способны получать наслаждение от созерцания того, что в обычной жизни человеку отвратительно» [3, с. 76]. Трагическое удовольствие оказывается специфическим переживанием, которое несравнимо ни с какими другими. Такое особенное переживание, словно перевернутое искусством, достигается во многом за счет захваченно-сти зрелищем, сконцентрированности и сосредоточенности на действии трагедии. Савченкова отмечает, что подобная структура, обусловливающая захваченность, в XX в. наличествует в феномене кинематографа. Однако практика чтения, как кажется, также способна дать подступ к вовлеченности, порождающей особый род переживания.
Л.С. Выготский, также обращаясь к «Поэтике» Аристотеля, разбирает психологическую сторону опыта чтения. Исследователь, анализируя ряд литературных текстов, приходит к выводу, что в произведении искусства заключено противоречие – столкновение мотивов и линий персонажей, формы и содержания, сюжета и фабулы, – которое вызывает с помощью поэтических, стилистических приемов двойственную реакцию, противоположные чувства. В конце произведения они объединяются и тем самым разрушаются в «катастрофе». Выготский называется это «разрешением аффективного противоречия в нашей реакции» [4, с. 219], катарсисом.
По Выготскому, катарсис снимает аффективное напряжение, показывая «призрачность» чувств, владевших нами при чтении. В результате нервная энергия разряжается, снимается напряжение, а катарсическое переживание способствует нормализации эмоциональной стороны, систематизирует и упорядочивает чувства [5, с. 386].
Целесообразно будет рассмотреть помимо аффекта в эстетическом опыте отношения переживания и искусства, особенно четко проработанные в феноменологии. Р. Ингарден как феноменолог рассматривает не просто произведение, но воспринимаемое произведение. Ход, который делает Ингарден, отличает художественное произведение от эстетического объекта как результата эстетического восприятия. Само по себе произведение – схема, оно неопределенно, неустойчиво, предметы, изображающиеся в нем, даны неполными, будто штрихами, что, собственно, и является художественностью [6, с. 62]. Читатель же конкретизирует произведение посредством эстетического восприятия.
Ингарден описывает такое восприятие как сложный процесс. Изначально происходит переход чувственного наблюдения реального предмета к эстетическому переживанию, направленному на формирующийся таким образом эстетический объект. Переход к эстетическому восприятию характеризуется прерыванием обычного хода вещей, вызванного неким качеством или множеством качеств, которые привлекают к себе внимание и поражают наблюдателя. Ингарден называет это предварительной эмоцией, которая открывает процесс эстетического переживания. Предварительная эмоция идет об руку с торможением повседневного хода переживаний. Ингар-ден определяет такое торможение как «сужение поля сознания» [7, с. 128].
В последующих фазах эстетического переживания происходит построение качественного ансамбля, сопровождающееся состояниями взволнованности, активностью и пассивностью. Суждения о ценности, эстетические оценки и анализ выносятся уже после завершения эстетического переживания и отнюдь с ним не тождественны. Ингарден предостерегает от приписывания познавательных, интеллектуальных ходов мысли художественному произведению как эстетическому объекту, т. е. объекту переживания.
Таким образом, читатель может иметь дело с двумя модусами чтения: акт эстетического переживания – эмоциональной направленности на качества и ансамбли качеств или интеллектуальный, познавательный акт, который перебивает, прерывает переживание.
Х.-Г. Гадамер отмечает роль феноменологии в окончательном освобождении произведения искусства от позиций подражания действительности. Эстетическое сознание, которое обладает операцией эстетического различения, выносит объекты в горизонт эстетического, вырывая их из жизненных связей, из контекста: эта абстракция «осуществляется в самосознании “эстетического переживания”» [8, с. 130]. Однако Гадамер критикует эстетическое сознание, совершая вслед за М. Хайдеггером онтологический поворот и ставя вопрос не об эстетическом переживании, но об истине бытия искусства. Для Гадамера чтение, как и другое восприятие произведения искусства, – это художественный опыт, а если это опыт, то он является способом познания и, значит, открывает путь к истине бытия.
Онтологическая характеристика искусства, данная Гадамером, – это игра и представление (игра осуществляется через представление) в форме структуры. Только в единстве структуры и игры может быть дано художественное произведение, которое возможно понять и повторить. Га-дамер специально оговаривает, что структура игры и характер процессуальности относится и к чтению: «…чтение книги – это событие, в котором осуществляется представление прочитанного содержания» [9, с. 210].
Искусство как игра овладевает зрителями представления (или читателями литературы): вырывает из окружающего, из повседневности, но тем самым возвращает полноту бытия. Действительность преобразуется, преображается с помощью структуры (в структуру) и таким образом становится искусством. При этом именно через искусство «выдвигается и выходит на свет то, что в других условиях всегда скрывается и ускользает» [10, с. 159].
Ингарден рассматривает искусство с позиции феноменологии и эстетического сознания, тогда как Гадамер переносит ракурс на эстетическое бытие и онтологию искусства. Однако можно выделить несколько общих моментов. Во-первых, это состояние захваченности, вырван-ности из повседневного, естественного контекста при эстетическом переживании или представлении игры. Во-вторых, это, соответственно, вовлеченность, направленность, сосредоточенность. И, в-третьих, как эстетическое переживание, так и представление произведения как открытие истины бытия оказывается специфическим опытом. В отношении практики чтения оказывается, что, имея дело со знаковой системой, человек не просто занимается расшифровкой как вычислительной, интеллектуальной деятельностью, но оказывается вовлеченным в событие и приобретающим определенный опыт.
Онтологическая ориентировка Гадамера задает и соответствующее толкование аффекта и трагедии, возвращаясь к «Поэтике» Аристотеля. Аффект интерпретируется как вовлеченность произведения (трагедии) в подлинное приобщение, сопричастность. Зритель трагического познает трагическое как общий порядок, как истину о мире, выходя за пределы собственной жизни, ограниченной и субъективной. Погружение в трагедию оказывается не увлекательным переживанием или наркотическим состоянием наподобие сна, за которым следует пробуждение, – напротив, трагедия сама действует словно пробуждение, сталкивает человека с подлинностью и истиной и в этом смысле «углубляет его внутреннюю целостность» [11, с. 179], является познанием и в том числе самопознанием.
И Выготский, и Гадамер констатируют вовлеченность. Однако в теории Выготского, конструируемой со стороны психологии, аффекты вовлекают читателя, катарсис же является разрешением этого вовлечения, освобождением от погруженности в аффект. Аффекты, эмоции при восприятии оказываются «призрачными» и несущественными, хотя за счет этого искусство и играет роль упорядочивания чувств. Тогда как онтология Гадамера оборачивает аффект и вовлеченность как вслушивание, внятие бытию, выхваченность из туманной повседневности и приобщение к подлинному.
Формальный метод предлагает собственное понимание искусства. В. Шкловский видит цель искусства не в понимании значения предметов, но в создании особого способа восприятия предметов. Одним из таких приемов оказывается отстранение – прием остановки внимания или прием задержания. Отстранение есть смена ракурса, которая заставляет читателя или слушателя, зрителя иначе взглянуть на вещи, что выявляет искусство как особый вид опыта [12].
Д. Майэлл (D. Miall), отталкиваясь от тезисов Шкловского, подробно разбирает опыт отстранения с точки зрения читателя. Значимыми здесь оказываются ожидание и предсказание, которые составляют часть опыта чтения. Нарушение ожиданий читателя, неожиданные ходы способствуют нарушению привычного положения дел и привлекают читателя через остановку в чтении, торможение чтения. Использование литературных приемов, тропов способствует продлению специфического эстетического ощущения за счет провоцирования текстом обновления эмоций [13].
На самом деле такое отстранение оказывается своего рода вовлечением в смысле привлечения внимания, вынужденной, спровоцированной текстом сосредоточенностью. Отстранение здесь означает «вырывание» из чтения как спокойного и даже обыденного процесса, скольжения по привычному. Таким образом, отстранение может быть рассмотрено как отстранение от привычного опыта и вовлечение в специфический, особый, неожиданный опыт искусства.
В рассмотренных теориях можно выделить понимание восприятия искусства как опыта через переживание, эмоцию, аффект. Онтология Гадамера не предполагает аффективной специфики, однако рассматривает чтение как опыт в смысле способа познания истины бытия, и познания не абстрактного, не интеллектуального, не научного, но проводимого через художественный опыт, как не компенсируемый иными сферами. Такой художественный опыт, несмотря на многообразие подходов, восходит к общей черте вовлеченности. Вовлеченность является не просто направленностью сознания, она характеризуется несколькими моментами: отстранением от привычного или повседневного, смещением обычной или естественной установки, поглощенностью и сосредоточенностью на специфическом опыте, свойственном только восприятию искусства.
Конечно, не всякое обращение к искусству проходит под вектором вовлеченности: к примеру, семиотический подход или теория постструктуралистов. Однако опыт вовлеченности оказывается частым спутником практики чтения. Это особенно примечательно, так как чтению не свойственны дополнительные средства воздействия в виде визуализации или музыкального сопровождения, на которые указывает Аристотель при разборе трагедии и которые Н.М. Савченкова видит в кинематографе.
При чтении как символической деятельности, т. е. деятельности, опосредованной символическим пространством, являющейся расшифровкой знаков, человек парадоксальным образом сталкивается с непосредственным восприятием, прямым, захватывающим. В повседневной жизни переживание оказывается опосредованным – заботами, другими людьми, жизненным опытом, страхами и ожиданиями. Человек всегда находится в сложном комплексе ощущений, размышлений, предположений. Чтение оказывается способом отстраниться от этого комплекса, от мира и от себя через внезапное сосредоточение на тексте – сюжете, мысли, переживании. Человек оказывается в своем роде бессильным, он растворяется в художественном опыте через вовлечение в аффект и катарсис, через сложный комплекс эстетического переживания, через отстранение от обыденного и естественного. Однако в итоге этот опыт, отличный от любого другого из жизни человека, привносит, сообщает, открывает нечто новое: иное восприятие привычного, иные эмоции, иное осознание или иной подступ к истине бытия.
Ссылки:
Список литературы Практика чтения как опыт вовлеченности
- Виттман Р. Революция чтения в конце XVIII в.?//История чтения в западном мире от Античности до наших дней/ред.-сост. Г. Кавалло, Р. Шартье; пер. с фр. М.А. Руновой, Н.Н. Зубкова, Т.А. Недашковский. М., 2008. С. 359-398.
- Аристотель. Об искусстве поэзии/пер. с древнегреч. В.Г. Аппельрота. М., 1957. С. 83.
- Савченкова Н.М. Альтернативные стили чувственности: идиосинкразия и катастрофа. СПб., 2004. С. 76.
- Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2016. С. 219.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике/пер. с пол. А. Ермилова, Б. Федорова. М., 1962. С. 62.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики/общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова; пер. с нем. Μ.Α. Журинская, С.Н. Земляной, А.А. Рыбаков, И.Н. Бурова. М., 1988. С. 130.
- Шкловский В. Искусство как прием//Формальный метод: Антология русского модернизма. Т. 1. Системы. Екатеринбург; М., 2016. С. 131-176.
- Miall D.S. Temporal Aspects of Literary Reading//Investigations into the Phenomenology and the Ontology of the Work of Art: What are Artworks and How Do We Experience Them? Vol. 81. Cham, 2015. P. 14-30. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14090-2_2.