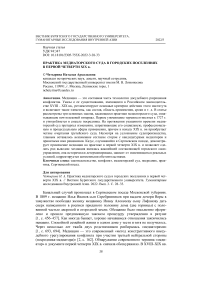Практика медиаторского суда в городских поселениях в первой четверти XIX
Автор: Четырина Наталья Аркадьевна
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Медиация - это составная часть технологии досудебного разрешения конфликтов. Указы о ее существовании, имеющиеся в Российском законодательстве XVIII - XIX вв., регламентируют основные критерии действия этого института и включают такие элементы, как состав, область применения, сроки и т. д. В статье рассмотрены три основных закона, касающиеся практики медиаторского суда, охватывающие почти вековой интервал. Первое упоминание термина относится к 1727 г. и употребляется в смысле посредника. На протяжении указанного времени медиаторский суд претерпел изменения, затрагивающие его социальную, профессиональную и процессуальную сферы применения, причем к началу XIX в. он приобретает четкие очертания третейского суда. Несмотря на усложнение судопроизводства, главным оставалось неизменное согласие сторон с кандидатурами медиаторов и принятыми ими решениями. Казус, случившийся в Сергиевском посаде, демонстрирует применение медиации на практике в первой четверти XIX в. и позволяет сделать ряд выводов: медиация являлась важнейшей составляющей городского самоуправления, она исторически детерминирована, зависит от изменяющихся реальных условий, корректируется жизненными обстоятельствами.
Законодательство, конфликт, медиаторский суд, посредник, практика, сергиевский посад
Короткий адрес: https://sciup.org/148325391
IDR: 148325391 | УДК: 94:347 | DOI: 10.18101/2305-753X-2022-3-28-33
Текст научной статьи Практика медиаторского суда в городских поселениях в первой четверти XIX
Четырина Н. А. Практика медиаторского суда в городских поселениях в первой четверти XIX в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. Вып. 3. С. 28‒33.
Банальный случай произошел в Сергиевском посаде Московской губернии. В 1809 г. мещанин Илья Иванов сын Серебренников при выдаче дочери Веры в замужество пообещал жениху мещанину Ивану Алексееву сыну Лифанову дать сверх написанного в росписи приданого половину дома (две горницы) с половинной частью дворовой и огородной земли. Обещание было письменно оформлено и прошло предписанную законом процедуру утверждения в ратуше [1, с. 456‒457]. Как иногда бывает, хорошо начавшиеся отношения закончились неважно. Спокойной семейной жизни в одном доме у тестя и зятя не получилось. Через несколько лет тяжба двух родственников разбиралась «медиаторами» [1, с. 693, 694]. Медиация — это современный «метод конструктивного внесудебного урегулирования конфликта при участии третьей нейтральной стороны (посредника-медиатора)» [2, с. 162]. Обнаружение современного термина «медиатор» в документе первой четверти XIX в. сначала обескуражило. В XVIII–XIX вв.
в российском законодательстве найдены юридические основания действия этого института, а именно в «Полном собрании законов Российской империи». Это три указа, которые регламентируют основные параметры действия этого института: состав, область применения, сроки и т. д.
Итак, впервые термин «медиатор» появляется в сенатском указе от 26 августа 1727 г. в той его части, где речь идет о «суде таможенном по словесным прошениям, а не по челобитным». Правда, в ссылке к названию этой части составители уточняют: «времяни утверждения сего устава из актов не видно, а потому оный помещается здесь как приложение»1. Этот «суд таможенный» учреждался в ратушах (органах городского самоуправления, имевших административносудебные функции) и при градских и уездных таможнях (существовали до 1754 г.) для быстрого («скорого») устного («словесного») производства между купеческими людьми. Для его осуществления отводились довольно жесткие сроки — одна-две недели.
В самом документе предписывается, что в случае несогласий по спорным вопросам самим конфликтующим выбирать посредников либо, если они сами этого сделать не в состоянии, назначать, но так, чтобы «истец и ответчик были довольны без спора, без отвода, а имена их в судебную книгу записать, и истцу и ответчику подписаться, и что медиаторы присудят, тому быть», т. е. термин «медиатор» синонимичен термину «посредник». В другой части документа — «О записке спорных дел» — дается разъяснение о порядке фиксации судопроизводства в специальной книге — единственном письменном документе таможенного (словесного) суда. Здесь снова прописывается важная часть процедуры: медиаторы, количество которых не регламентировано, выбираются обеими конфликтующими сторонами или назначаются в случае неспособности сторон, но в обоих случаях соблюдается принцип обоюдного письменного одобрения кандидатур и более того — с обязательством согласиться с будущим решением посредников-медиаторов2. Другими словами, обе стороны заранее отказываются от возможности опротестовать решение, апеллировать и добиваться в высшей инстанции желаемого результата.
Следующий законодательный акт «Устав о банкротах», в котором использовался термин «медиатор», был принят 19 декабря 1800 г. Первая его часть предназначалась «для купцов и другаго звания торговых людей, имеющих право обязываться векселями». Отделение XV называется «О медиаторском разборе». Приведем п. 115 полностью: «Ежели в конкурсе при разбирании отчетов, требований и долгов случатся между кураторами и требователями или должниками затруднительные споры, а буде для решения оных с обеих сторон согласятся идти на медиаторский суд; то с каждой стороны выбрать по одному или по два медиатора, а выбранным обще выбрать еще одного для решения споров по большинству голосов; которому решению обе стороны должны беспрекословно повиноваться и нигде на оное не просить; записи о медиаторском разборе писать за свидетельством публичнаго нотариуса»1. Здесь мы видим усложнившуюся структуру медиаторского суда. Прежде всего, оговорен количественный состав — по одному или по два человека с обоих сторон и еще один, избранный самими медиаторами (3 или 5 человек). Именно нечетное количество дает возможность принять решение «по большинству голосов». Усложняется порядок письменного оформления записи в книгу — требуется свидетельство публичного нотариуса. При этом сохраняются важные элементы сложившегося ранее порядка: выборность медиаторов при обоюдном согласии сторон, обязательство «безпрекослов-но повиноваться» принятому решению, а также отказ от апелляции — «нигде на оное не просить».
Третий раз термин «медиатор» был употреблен 11 ноября 1802 г. в именном указе, данном военному губернатору Санкт-Петербурга Каменскому «О выборе медиаторов для разбора дел судом третейским»2. Этим актом фиксируется расширение практики применения медиаторского суда — не только для купцов и торговых людей, но и для дворян-помещиков. Суд медиаторский — это суд третейский. Поводом для публикации указа стали несоблюдение сроков и использование неправильной практики процедуры выбора для саботирования принятия решения — уклонение одного из участников от выбора «третьего» (главного судьи), в то время как законом предписывается выбор этого лица только самими медиаторами-посредниками. Подтверждается обязательность письменного одобрения обеими сторонами выбранных лиц, а при несогласии в практику вводится элемент гуманности: «право человечества и сострадания» к «слабейшей стороне» для защиты от утеснений «руки сильнаго».
Сохранившийся протокол заседания ратуши Сергиевского посада1820 г. 3 позволяет увидеть применение законодательства на практике. Первоначально Серебренников и Лифанов обратились в низшую судебную инстанцию для городских сословий — в ратушу. Но в посаде для быстрого, устного разбирательства возникающих претензий существовал словесный суд, в который ежегодно избирались двое словесных судей из числа жителей посада. Из делопроизводственной документации там велась книга для записи прошений и принятых по ним решений. Однако наши герои туда не обратились. Кто инициировал обращение к процедуре медиаторского суда из документов не ясно, но при этом были частично выполнены процедурные моменты указа от 19 декабря 1800 г. — конфликтующие письменно назвали по два медиатора, каждый со своей стороны и одного и того же пятого члена. Был ли пятый член выбран самими медиаторами, как этого требует закон, или обе стороны об этом сами договорились — из текста не ясно. Но, как уточняется в протоколе 1820 г., тесть и зять: «в данной им подписке изъявили, что господа медиаторы по суду учинят, они спорить и прекословить не будут»4, т. е. заранее письменно отказались от апелляции, как и требуется по закону. Не выполненным оказалось указание о засвидетельствовании записи публичным нотариусом, но такого должностного лица в Сергиевском посаде не было вообще. Значит на этой стадии законодательная норма исполнялась максимально полно.
Показательно, что главным среди медиаторов оказался священник, более того — благочинный, т. е. наиболее уважаемый, возглавлявший целое благочиние, служитель церкви. Именно духовные отцы имели наибольшее влияние на свою паству, принимали участие в жизни каждого прихожанина в самые важные моменты: при рождении — крестили, при заключении брака — венчали, ежегодно исповедовали, отпускали грехи, причащали, провожая в последний путь — отпевали. При написании духовных завещаний священники часто как особо доверенные лица ставили подписи вместо неграмотных завещателей или становились свидетелями. После проповеди им удавалось примирять конфликтующих в стенах храмов, а в тюрьмах — склонять преступников к раскаянию.
Решение конфликта затянулось на три года, т. е. «скорым» этот суд не получился, хотя и слишком долгим по меркам того времени его назвать нельзя. Решительное определение ратуши состоялось 17 декабря 1820 г., оно насчитывает 76 листов рукописного текста и воспроизводит все подробности процесса. За это время медиаторы потребовали от ратуши точную копию документа 1809 г., чтобы не сомневаться в пунктах этого договора, изучали с точки зрения достоверности другие предоставленные документы, составили опись спорного имущества, оценили и разделили его. При этом выяснилась специфическая особенность дома — он был куплен в 1797 г. за 300 р. без оформления купчей, т. к. подлежал сносу («то строение состоит не по линии и следует к сломке, ибо на том месте должны поместиться на новооткрывшейся Вознесенской площади лавки»). Видимо именно по этой причине в 1809 г. в документе, выданном зятю, Серебреников указал, что «план и данная не получены». Учтем, что вся эта хлопотная работа велась медиаторами совершенно бесплатно собственными силами, без привлечения технических работников, без освобождения от собственных основных торговых, ремесленных и иных занятий, а главное — при отсутствии специальной юридической подготовки. Однако с подписанием возникли некоторые сложности, т. к. один из медиаторов сам попал под суд и был лишен своего статуса. Правда, это обстоятельство не сыграло существенной роли в решении конфликта. Здесь важно другое — попавший под следствие человек (заметим, не признанный виновным по решению суда, а только подозреваемый) не мог быть в числе медиаторов, что является показателем наличия в повседневной практике высоких персональных моральных требований к личным качествам посредников.
Вариант раздела, выработанный и подписанный медиаторами, стал основой для вынесения решительного определения ратуши (что соответствовало законодательству): «согласно разделу медиаторов означенное строение разделить им тяжущимся пополам, о чем с прописанием раздела их и сообщить в здешнюю полицейскую часть». При этом каждый должен был получить на свою часть план и данную. С участников взыскивались деньги за пошлины и разные судебные издержки, но не за труд медиаторов. Лифанов и Серебреников поставили свои личные подписи в самом конце документа, но о согласии или несогласии написали уклончиво, что сообщат об этом в предписанные законом сроки1. В данном случае вопреки указам и взятым на себя письменным обязательствам решение не считалось окончательным, а допускалась апелляция. Возможно, это отступление от законодательной нормы произошло оттого, что медиация оказалась внутри процедуры суда низшей городской инстанции — ратуши, а не самостоятельной, самодостаточной институцией.
Сложно определить, является ли приведенный исторический казус исключительным или обычным явлением практики медиаторского суда. Тем не менее Российское законодательство XVIII‒XIX вв. и приведенный случай из практики небольшого городского поселения первой четверти XIX в. свидетельствуют о существовании медиации как важной структуры самоуправления. В настоящее время существует Федеральный институт медиации, проводятся конференции с участием теоретиков и практиков, юристов, психологов, философов, социологов, историков и политологов [3]. Медиация предстает как явление, меняющееся во времени и корректируемое самой жизнью.
Список литературы Практика медиаторского суда в городских поселениях в первой четверти XIX
- "Помышляя о часе смертном".: семейно-правовые акты в документах ратуши Сергиевского посада (последняя четверть XVIII - середина XIX в.). Тексты и комментарии / составитель Н. А. Четырина. Москва: Политическая энциклопедия, 2022. 791 с. Текст: непосредственный.
- Бутырин Г. Н., Бутырина С. А. Медиация. Москва: Изд-во МГИИТ, 2014. 234 с. Текст: непосредственный.
- Медиация: теория, практика, перспективы развития / ответственный редактор О. П. Вечерина // Сборник материалов научно-практической конференции (Москва, 13-14 апреля 2017 г.). Москва: ФИМ, 2017. 178 с. Текст: непосредственный.