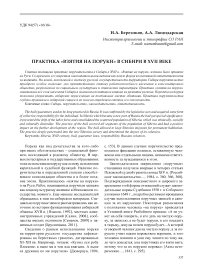Практика «взятия на поруки» в Сибири в XVII веке
Автор: Березиков Н.А., Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XX, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена практике поручительства в Сибири в XVII в. «Взятие на поруки» издавна было принято на Руси. Со временем его закрепили законодательными актами как некую форму коллективной ответственности за индивида. На новой, включенной в систему русской государственности территории Сибири поручительство приобрело особое значение: оно препятствовало оттоку работоспособного населения и консолидировало общество, разрозненное по социальным, культурным и этническим параметрам. Практика «взятия на поруки» охватывала все слои населения Сибири и оказывала позитивное влияние на развитие региона. Передача на поруки позволяла удерживать сибирских переселенцев на постоянных местах обитания. Практика поручительства глубоко проникала в сибирский социум и во многом определяла степень его сплоченности.
Сибирь, поручительство, законодательство, ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14522136
IDR: 14522136 | УДК: 94(57)
Текст научной статьи Практика «взятия на поруки» в Сибири в XVII веке
Порука как вид ручательства за кого-либо при неких обстоятельствах – социальный феномен, восходящий к родовому обществу. В первых потестарных и государственных образованиях тоже использовали поруку как основу исполнения карательной и судебной функций. Наличие поручительства в определенной степени способствовало консолидации общества и в более поздние эпохи. Практиковалось «взятие на поруки» и на Руси. Работ, посвященных поручным записям как социокультурному явлению в Московском государстве, немного. Еще меньше исследователей обращались к ним на сибирском материале. Специально поручные записи рассматривались как источник по истории функционирования сибирской общины XVII в. [Языков, 1992], местных административных учреждений [Селин, 2008], сообщества ямских охотников [Семенов, 2009] и пашенных солдат [Брусницына, 2011].
Сведения о раннем использовании поруки на территории русского государства зафиксированы на берестяных грамотах, датированных XI–XII вв. Например, читаем: «Купил еси робу Плескове, а ныне мя в том яла княгыни. А ныне ся дружина по мя поручила» [Дювернуа, 1894, с. 153]. В данных случаях поручительство предполагало фиксацию подписи, оставленную человеком или отдельными лицами, несшими ответственность за нуждавшихся в этом.
Законодательное закрепление «поручные» отношения получили впервые в четырех статьях Псковской судной грамоты конца XIV в. [Российское законодательство…, 1984, с. 360, 366, 368]. Подтверждением повсеместного и широкого закрепления этой формы отношений служат законодательные нормы Судебника 1550 г. и Соборного уложения 1649 г., подробно регламентировавших случаи использования поручных записей и санкции за их нарушение. Некоторые разъяснения о положении человека «на поруке» приводятся в Уставной книге Разбойного приказа: «А не уч-нет на себя говорить, и его дать на чистую поруку, за записью; a не будет поруки, и его посадить в тюрьму, докуды по нем порука будет... А которой оговорной человек дан на чистую поруку, а за порукою учнет каким воровством воровати, и того человека поимати и указ ему чинити по тому же, до чего доведется; а на порутчиках его взяти выть, потому что за их порукою воровал» [Акты исторические…, 1841, с. 295].
На территории Сибири в пору ее включения в состав Московского государства практика поручительства использовалась часто. На огромном неустроенном сибирском пространстве поручительство приобрело особую окраску. Новые земли перманентно заселялись колонистами, однако это был долгий процесс. При этом определенное количество пришлых людей было задействовано на пушных промыслах, а государевы служилые люди в основном занимались своими прямыми обязанностями – созданием условий для мирной жизни в окружении автохтонного населения края. Между тем, хозяйственное освоение Сибири требовало огромных усилий. Создавались новые поселения, жители которых нуждались в продукции жизнеобеспечения. Людей же для этих целей не хватало. Ценность жизни имела в условиях Сибири особое значение. В документах XVI–XVII вв. не единожды отмечены сравнительно мягкие наказания для нарушителей установленных норм поведения. Кроме того, обширные пространства предоставляли возможность «затеряться» в Сибири. Именно поэтому поручительство приобрело здесь особый смысл: оно тормозило сокращение количества работоспособного населения, препятствуя его исключению из сложившегося социума. Особенно актуальным такое положение было для начального периода освоения Сибири.
Поручные записи, распространенные в Сибири, мало отличались по формуляру от московских. Так, наиболее ранний текст поручной записи 1628 г. Афанасия Аврамова и Демида Григорьева свидетельствует о подследственных по «мангазей-скому делу». Текст сохранен в полной редакции и содержит представление поручителя, указание на групповую принадлежность лица, за которого ручались, обозначает предмет поручительства. Далее идет перечисление обязательств, исполнение которых гарантирует поручитель, обозначаются санкции, применяемые к поручителям в случае неисполнения лицом, за которое дано поручение, своих обязанностей. «А буде <имярек> не <...>, и на нас, на порутчиках, государева... пеня, а пене, что государь укажет, и наши, порутчиковы, головы в их голов место» (НИА СПбИИ. Ф. 160. Оп. 1. Д. 565. Л. 1).
Поручительство практиковалось среди всех слоев сибирского населения, но прежде всего это касалось наиболее организованного служилого казачества. В этом плане любопытен случай, произошедший в 1640-х гг. в Кузнецком остроге. Из отписки кузнецкого воеводы Афонасия Зубова следует, что сбежали из Кузнецка иноземцы Илейка Пашков и Ивашка Жидок, а вслед за ними «побежали» пашенный крестьянин Степка 338
Леливцев вместе с красноярским казаком (по более поздней версии тоже крестьянином) Мишкой Терентьевым. В результате неудачного побега, после долгих мытарств беглецы были возвращены в Кузнецк. После проведенного воеводскими властями разбирательства и исполнения наказанья они были возвращены в пашню «по-прежнему». Освобождение было совершено под поручную запись: «…чтоб... впредь не воровать» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 233–239, 323). Выдача преступника на поруки происходила, как правило, после наказания. Подтверждением этому служат события в Якутске. Якутский воевода в 1656 г. предписывал провинившимся «чинить наказанье, бить по торгом кнутом нещадно, а учиня наказание и поимав по них поруки, велели им жить по прежнему, кто откуды побежали» [Дополнения…, 1851, с. 87].
В условиях поручной записи иногда прописывали обязательство поручаемого возместить убытки поручикам (РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 224. Л. 64–66). Формуляр поручной записи оставался неизменным на протяжении всего XVII в. На это указывают тексты поручных записей в сыскном деле о винном курении киренского попа Михаила Данилова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1372. Л. 979–979об., 980–980об., 992–992об., 992об–993). Санкции в случае неисполнения обязательств могли варьировать от выплаты годового оклада и приискания нового лица в службу взамен сбежавшего до домашнего ареста и тюремного заключения [Дополнения…, 1855, c. 33–37].
При подряде на государевы работы необходимо было подыскать себе поручителей. Если же по требованию властей они не были найдены, применялись карательные санкции вплоть до заключения в тюрьму. Подобные меры зачастую применяли по отношению к плотникам, делавшим кочи и лодки для государевых нужд в Сибири. Приведем фрагмент поручной записи по поводу строительства речного флота: «...поручилися есми на Ленском волоку Съезжие избы целовальнику Семену Ондрееву по ленском пашенном по Офо-насье Иванове Долгом, в том: порядился есми в Ылимском остроге в Съезжей избе по приказу воеводы Богдана Денисьевича Оладьина у целовальника, у нево, Семена Мыльника, сделать ему, Офонасью, за нашею порукою десять дощаников по семи сажен по колоде печатных всякой дощаник, широта трех аршин со штью вершки ...А буде тех судов он, Офонасей, за нашею порукою на срок не зделает и не отведет, и на нас, на порутчиках, государя Алексея Михайловича пеня, а пене, что государь укажет, и задаточные деньги. А которой нас, порутчиков, в лицех, на том и порука вся сполна...» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 123. Л. 60–68; Ф. 214. Оп. 3. Стб. 586. Л. 42–51). Однако известны случаи применения таких санкций и к служилым людям (РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Ч. 2. Д. 1137. Л. 28е).
Исключений «по поруке» не делали ни для кого. Например, известный землепроходец Е.П. Хабаров в 1660 г. подал челобитную об отпуске его из Якутска в Илимский острог, чтобы набрать поручиков (РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 191. Л. 34–34об.). Провинившиеся красноярские казаки вынуждены были ходить по деревням Илимского уезда в 1670 г., чтобы набрать «себе людей в поруки» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 814. Л. 103–111). Руководителю отряда казаков, отправлявшихся в дальнюю экспедицию, наказывали составлять поручные записи по каждому спорному случаю, возникшему между членами отряда в процессе похода. В качестве яркого примера можно привести челобитную С.В. Полякова и его спутников о поведении Я.П. Хабарова на Амуре в 1650–1653 гг. [Русские первопроходцы…, 1995, с. 32–50]. При возникновении серьезных «государевых дел» за подозреваемого ручалось все «войско» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 819. Л. 1–70). Порука была действенным средством. Взятие поручных записей можно было использовать в т.н. «подковерных» воеводских играх. Так, нарымский воевода Иван Скобельцын со своим противников «насильством имал» поручные записи и «заводные челобитные» против него (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 212. Л. 4, Л. 55, 109).
Обобщая многочисленные сведения о системе поручительства, приходим к выводу, что эта мера широко применялась и, в конечном итоге, служила консолидации сообщества пионеров-первопоселенцев на пространствах Сибири.
Список литературы Практика «взятия на поруки» в Сибири в XVII веке
- Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссией. -СПб.: Тип. II отд-ния соб. Е.И.В. канцелярии, 1841. -Т. 2. -220 с.
- Брусницына Д.В. Оформление поручных записей как способ борьбы с дезертирством пашенных солдат в Карелии второй половины XVII века//Вестн. Тверского гос. ун-та. Сер. История. -2011. -№ 4. -С. 104-118.
- Дополнения к актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией. -СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. -Т. 4. -416 с.
- Дювернуа А. Материалы для словаря древнерусского языка. -М.: Университетская тип., 1894. -234 с.
- Российское законодательство X-XX веков. -М.: Юрид. лит., 1984. -Т. 1. -432 с.
- Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв./Отв. ред. А.Р. Артемьев. -Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 1995. -Т. 2. -320 с.
- Селин А.А. Новгородские приказы в 1611-1617 годах//Российская история. -2008. -№ 6. -С. 52-61.
- Семенов О.В. История Демьянского яма в XVII в.: возникновение и первые годы существования//Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 2: Гум. науки. -2009. -Т. 65, № 3. -С. 152-159.
- Языков С.А. Поручные записи по новоприбылым посадским людям как источник по истории сибирской общины XVII века//Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной России. -Новосибирск: Наука, 1992. -С. 80-87.