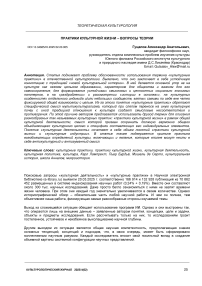Практики культурной жизни – вопросы теории
Автор: Гуцалов А.А.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Теоретическая культурология
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья поднимает проблему обоснованности использования термина «культурные практики» в отечественной культурологии. Выявлено, что оно заключает в себе устойчивую коннотацию с традицией «новой культуральной истории». В ней делается основной упор не на культуре как некоем цельном образовании, характерном для общества и важном для его самосохранения, для формирования устойчивых смысловых и ценностных социально значимых паттернов, а на «раздроблении» и рассмотрении «истории в осколках», на культурных особенностях отдельного индивида и/или небольших сообществ, взятых самими по себе вне четко фиксируемой общей взаимосвязи с целым. Из-за этого понятие «культурные практики» обретают специфический смысл мультикультурализма, который при слепом переносе на иную культурную почву с иной традицией отношения к культуре создает смысловые несоответствия и противоречия. По этой причине автором предлагается использовать другой термин для описания разнообразных так называемых культурных практик: «практики культурной жизни» в рамках общей культурной деятельности, смысл которой призван сохранить должную гармонию общего объединяющего культурного целого и специфики составляющих его индивидуальных элементов. Понятие «культурная деятельность» сочетает в себе объем понятий «практики культурной жизни» и «культурные индустрии». В статье также подвергается критике практика всеобъемлющих определений культуры, включающих и явления, которые вполне могут нести в себе антикультурный и антигуманный смысл.
Культурные практики, практики культурной жизни, культурная деятельность, культурная политика, культура, Карл Лампрехт, Пьер Бурдьё, Мишель де Серто, культуральная история, школа Анналов, микроистория
Короткий адрес: https://sciup.org/170211152
IDR: 170211152 | DOI: 10.34685/HI.2025.52.20.005
Текст научной статьи Практики культурной жизни – вопросы теории
Поисковые запросы «культурная деятельность» и «культурные практики» в Научной электронной библиотеке (е-library.ru) выявили 20.03.2025 г. соответственно 166 914 и 132 928 публикаций из 70 662 452 размещенных в системе индексирования научных работ (0,24% + 0,19%). Вместе они составляют около 300 тыс. научных исследований. Даже просто бегло ознакомиться с ними не хватит времени жизни человека. При этом они каждый год значительно увеличиваются в своем количестве. Однако историографический обзор – обязательная часть любой научной работы. И чем он полнее, тем объективнее наша работа, фиксирующая самые разнообразные стороны изучаемой темы.
Выход из сложившейся ситуации обещает использование программ ИИ. Однако и они выстроены так, что опираются лишь на внешние данные – заявленные автором понятия, концепции, цели и задачи, объекты и предметы исследования. Если рассчитывать только на них, то исследованиям грозит постепенное, устойчивое и неизбежное выхолащивание научной глубины.
Другим выходом из ситуации является общая научная компетентность, предполагающая знание основных тенденций, концепций и подходов, что, в свою очередь, может быть сформировано коллективным научным разумом. Каждый исследователь вносит свой посильный вклад в создание объемной картины системной конфигурации научных представлений.
Своеобразными маркерами многообразных теоретических подходов и концепций являются используемые в них понятия, понятийные конструкции. Некоторые понятия настолько органичны определенным системам, что становятся более чем понятием, а именно: их репрезентантами. Например, при употреблении понятия «чистый разум» перед нашим взором сразу возникает стройная система представлений трансцендентальной философии, развиваемой Кантом, так же как концепт «мировой разум» отсылает к философии Гегеля. Аккуратности в использовании понятий в научной работе, а также стоящими за ними основополагающими подходами в освещении и раскрытии феномена культуры и посвящена данная статья. Методология исследования предполагала историографический обзор литературы, выявление и анализ основных концепций, в рамках которых понятия «культурные практики» и «культурная деятельность» активно используются.
Одним из самых сложных и неопределенных объектов изучения можно считать сферу культуры. Каким образом излагать ее историю в целокупности, в должной органичной взаимосвязи ее многочисленных явлений? Вопрос «что же такое история культуры?» был задан еще в конце XIX в. (1897) создателем психологической теории истории германским историком Карлом Лампрехтом, хотя традиция истории культуры насчитывает уже более двух с половиной веков. Этот создатель 12-томной «Истории Германии» одним из первых обратил внимание на различие психологического восприятия событий у разных народов и одного и того же народа в разные исторические времена.
Он, как известно, предложил психологическую типологию стадий развития любого человеческого общества: символистической, типической, конвенциональной, индивидуалистической и субъективистской. Такой подход вовлекает в исторический процесс уже не просто массы людей, народы с их судьбами и ролью в общем историческом процессе, но и конкретных людей с уникальными особенностями их психологической реакции на происходящие события глобального, локального и частного характера. Специфика такой исследовательской программы неизбежно разворачивала внимание со всеобщих процессов, в которые вовлечены массы людей, на простого человека, которому в формационных, цивилизационных, мир-системных теориях отводилось весьма незначительное место, если вообще отводилось.
Культура человеческого сообщества реализует себя в теоретическом осмыслении, в научной, экспертной работе, в многообразных культурных практиках, или практиках культурной жизни, и культурных индустриях. В документе «Основы государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 г. употребляется объемное понятие «культурная деятельность»: «Деятельность по созданию, распространению, сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей и предоставлению культурных благ в области культурного наследия, литературы, театрального, музыкального, изобразительного, циркового искусства, архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, дизайна, кинематографии, фотоискусства, средств массовой информации, культурных (творческих) индустрий, народных художественных промыслов и ремесел, культурного досуга, народного художественного творчества, фольклора, нематериального культурного наследия, музейного, архивного, библиотечного дела, эстетического воспитания, художественного образования, педагогической деятельности в сфере культуры, международного культурного сотрудничества» [19]. Исходя из этого определения, можно сказать, что культура реализует себя в культурной деятельности, которая проявляется в многообразных культурных практиках (или практиках культурной жизни), культурных индустриях, а также в разного рода осмыслении процессов культурного бытия.
Казалось бы, культурная деятельность, культурные практики, практики культурной жизни – термины синонимичные, отсылают нас к одному и тому же содержательному наполнению. Раскрывая сферу культуры, представляя ее историю, мы ведь должны говорить о разнообразных явлениях культурной жизни, ее практиках. И чем больше и шире, системнее мы их представим, тем шире будет нами охвачен этот исследуемый объект. Между тем, то, как должна быть представлена культура, – проблемная область, в которой сломано не одно копье.
За понятием культурные практики , которое нам, на первый поверхностный взгляд, кажется синонимичным культурной деятельности , или практикам культурной жизни , уже сложилась целая традиция его использования и теоретико-методологического освоения. Это как раз тот самый случай, когда понятие репрезентирует традицию, что нельзя игнорировать во избежание всякого рода несуразностей и недоразумений.
В культурологию, судя по всему, оно было введено в 1970-х гг. Пьером Бурдьё (1930–2002). Он был, очевидно, первым, кто стал активно использовать этот термин. Представитель постструктуралистской философии Мишель де Серто (1925–1986) свел понятие культурные практики к сочетанию «способа мыслить», свойственного данному народу, что потом «инвестируется в способ действовать», который «неотделим от искусства использования» [23, с. 44]. Само понимание культуры и литературы народа («народной культуры», «народной литературы») Серто сводит к «“искусству делания” того или другого, т.е. как комбинирующее и пользовательское потребление» [23, с 44; 35, p. XVI]. Однако это понимание следует рассматривать сквозь его оригинальную концепцию повседневности, где основной акцент сделан не на общих ценностях, а на непрекращающейся борьбе обычного человека с господствующим порядком в его стремлении создать из навязанного общего пространства свое.
Еще в 1974 г. Серто издал сочинение «Культура во множественном числе» [34]. В этой книге он впервые подробно изложил свою позицию, в которой определяющее значение имеет понятие культурных практик. Оно было направлено на прояснение культурных практик городских жителей. В другой работе «Изобретение повседневности» (1980) Серто рассматривал любые практики человека, даже практики потребления как повседневное анонимное творчество, как акт творчества.
Пьер Бурдьё в изданной в 1980 г. книге «Практический смысл» [33] употребил термин «практика» 592 раза, но ни разу не употребил термин «культурные практики». Тем не менее, объем этого понятия полностью соответствует тому, что вкладывают в понятие «культурные практики» российские исследователи. Бурдьё писал о ритуальных, символических, научных, магических, речевых, логически имманентных, социальных, разумных, экономических, специфических и автономных, языковых, мифопоэтических и иных практиках. Термин «практики» употребляется им, как и Мишелем де Серто, в специфическом смысле: как именно культурные предпочтения, привычки, стиль поведения конкретных групп людей и отдельных персон. В связи с этим Бурдьё проводит резкие различия [культурных] практик обеспеченных граждан от маргинальных и бедных групп населения [6, с. 61 -62]. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о репрезентации культуры народа в соответствующих практиках, где многообразие практик вовсе не отменяет культурное целое нации, а лишь подчеркивает его своеобразие.
В рамках развиваемых подходов Бурдьё и Серто акцент делается как раз на частном, специфическом, на культурных особенностях разных локальных сообществ, возникших по причине различия материального обеспечения, места проживания и т.д. Мы уже не видим за их обилием и спецификой единого и объединяющего целого. Культурные практики объединяют субкультурные сообщества, но не народ. Культура как некое единое образование, свойственное данной нации, теряется в таком освещении. Она превращается в сочетание несочетаемого, в простую сумму культурных практик разных сообществ, которые могут быть никак и не связанными друг с другом. По сути, употребленный в названии произведения Серто термин «культура во множественном числе» точно отражает суть подхода данных ученых. Она плюрализируется, сталкиваясь с неизбежной опасностью потери своего единства, сплачивающих общество единых культурных норм и основ.
Тем не менее, до сих пор единое общепринятое понятие культурных практик так и не выработано. Вместе с тем оно укоренилось в некоторых западных традициях, что мы не можем не учитывать при его использовании, поскольку в них данное понятие наполнено устойчивыми коннотациями, которые могут вводить в заблуждение компетентного читателя при его использовании в иных содержательных контекстах. И это уже может быть усмотрено в вышеприведенном определении.
Употребление этого термина, как и других новых понятий (медиакультура, культурный кластер, культуроника, культуротворчество, культурные индустрии1, экономика впечатлений, культурные инновации и др.), как верно отмечают российские исследователи Н.Ф.Зюзев и Н.С.Пичко, «маркируют глубину изменений, происходящих в архитектонике социокультурного пространства», вызваны пониманием «не только внутренних связей между состоянием культуры, социальными, экономическими и политическими явлениями, но между культурой и познанием» [13, с. 15].
В 1980-е гг. на Западе в активный научный обиход вошел термин «новая культуральная история». Речь идет об истории культуры, но переводчики все же верно переводят “the Cultural History” не как историю культуры, а как культуральную историю, подчеркивая скрывающуюся специфику его интерпретации в данной концепции.
Общими особенностями концепции новой культуральной истории были субъективный подход к материалу, повышенное внимание к методам исследования, анализ культуры через изучение конкретных культурных практик. Развивали такой подход Роберт Дарнтон, ЛиннХант, Айвор Норман Дэвис, Роджер Мурхаус и др.
Обращение к культурным практикам становится одним из принципиальных лозунгов парадигмы, задаваемой движением новой культуральной истории: «история религиозной практики, а не теология, история речи, а не история лингвистики, история эксперимента, а не научной теории» [4, с. 94]. Бёрк подчеркивает, что «история практики из всех сфер современных исторических исследований в наибольшей степени подверглась влиянию социальной и культуральной теории» [4, с. 94].
Основная проблема заключается в определении того, что же такое культура, историю которой мы изучаем и описываем. Например, английский историк Мири Рубин понимает культуру как охватывающую все сферы нашей жизни. По этой причине, по ее мнению, следует говорить о культуре политики, культуре экономики, культуре производства, культуре в сфере религии, культуре женского и мужского поведения, культуре повседневности и т.д. [40]. Питер Бёрк определяет культуру с точки зрения повседневности, то есть как ценности, обычаи, образ жизни. Такое понимание, по его представлению, открывает феномен культуры в самом широком смысле, способном вовлечь в себя огромные массы людей, которые прежде выпадали из представления общего исторического процесса.
Основной посыл культуральных историков, среди которых следует назвать и так называемых микроисториков (Карло Гинзбурга, Джованни Леви1, Эдоардо Гренди, Ханса Медика), заключался в необходимости обратить внимание на разнообразие, специфичность небольших локальных культур, на простых людей, не вписывающихся в общие мировые и иные объемные тенденции, фундированные политическими, идеологическими, экономическими процессами. Например, Гренди в своей работе «Еще раз о микроистории» писал о «широком процессе развития европейской историографии, результатом которой стало так называемое «раздробление истории», возникновение «истории в осколках»». Он отмечает, что подход микроанализа «полностью противоречит тому, чего ожидали от синтезного подхода к истории» как некой «объединяющей парадигме» [11].
П. Бёрк уподобил эти тенденции альтернативе микроскопа телескопу [4, с. 73], благодаря чему конкретный индивид с его локальными культурными практиками также получил право и возможность войти в мировую историю в качестве ее значимого структурного элемента. Причем в среде самих микроисториков было предостережение от увлечения «разглядывания мелочей» (Джованни Леви [39, р. 93-113]), от «склонности к микроисторической мелочишке» (Юрген Кокка [38, S. 43]), от «безыдейной микрологии» (Генрих фон Трайчке [41, S. 721]) вместо «рассмотрения подробностей» [18, с. 195-196]. Именно в этом смысле в 1990 г. Джованни Леви употребил понятие «микроскоп» как символическое выражение метода обстоятельного изучения объекта.
Такая контраверза неизбежно ставит перед нами задачу поиска компромисса между макроисторией с фиксацией глобальных исторических процессов и вниманием к микроистории, идущей многочисленными самостоятельными, зачастую непересекающимися потоками, значимыми для большинства людей, но теряющими при таком освещении объединяющую в единое общество взаимосвязь между собой.
Следует отметить и представителей школы «Анналов», третье поколение развития которой называют также «новой исторической наукой» (La Nouvelle Histoire), с ее обращением к истории повседневности, к исторической антропологии (назовем, например, имена представителей первого поколения Люсьена Февра, Марка Блока, основавшими журнал «Анналы» в 1929 г., а также четвертого поколения этой школы Жака Ревеля, Бернара Лепти, Роже Шартье и др.). Их заслугой стало то, что впервые объектом исторического познания стали формы мыследеятельности простых людей. Историки стали обращать внимание не столько на готовые общие социально-экономические, политические схемы, сколько на конкретного живого человека. Судя по всему, появление концепции «новой культуральной истории» с ее повышенным интересом к конкретным устойчивым и повседневным культурным практикам было отчасти инспирировано теорией и практикой исследования «новой исторической науки».
Может быть, поэтому культурология (Cultural Studies), термин которой предложил в 1949 г. американский антрополог Лесли Уайт, понимаавший под ней методологию изучения именно общих закономерностей культурно-исторического процесса и специфики человеческих культур как самоорганизующихся систем [28], не получила вначале широкого развития на Западе. Да и сам развиваемый им подход был весьма технологичным. Например, прогресс культурного развития оценивался им степенью «контроля над силами природы» [24, с. 585].
Представление культуры как совокупности множества культурных форм, культурных практик и индустрий, мотивирующих непрерывный процесс культурной самоидентификации людей, стало активно проводиться в мире, в том числе и России.
С точки зрения Н. Ф. Зюзева и Н. С. Пичко, «к культурным практикам следует относить: практики организации досуга (посещение театров, музеев, художественных выставок, просмотр телепередач), музыкальные предпочтения, практики чтения и интернет как досуг и источник культурного контента» [13, с. 18]. По их мнению, «будущее культурных практик России находится в плоскости разработок «нового языка» формообразования, который будет основан на максимальном использовании потенциалов отношений «человек – природа – техника» и будет оперировать новыми пластическими и виртуальными параметрами» [13, с. 21]. С активным продвижением цифровых технологий их понятие, конечно, обогащается и постоянно дополняется. В. Бычков, Н.Маньковская даже говорят о трансформации традиционных видов искусства в культурные практики, понимая под ними такие сферы, как создание культурной среды обитания человека, шоу-бизнес, цифровое искусство [8, с. 62-72].
Концепт «культурная практика» в современном российском научном дискурсе употребляется по отношению к самым различным областям человеческой деятельности. Например, функционирование различных виртуальных поэтических сообществ (А. О. Разинкина) [21], средовое проектирование, концептуальное творчество в архитектурном образовании и проектировании (М.В.Дуцев) [12], различные субкультуры (Н. В. Тищенко) [27], квест-игра (В. А. Романова [22]), ландшафтный дизайн (Ю. А. Бледных [5]), культурный туризм (Л. М. Гайдукевич [10]), семейный туризм (Л. Г. Скульмовская [24]), сохранение историко-культурного наследия (В. Г. Целищева [32]), формирование культурной памяти города (Н. Г. Федотова [30]), танцы (А.М.Айламазьян [1]), культурно-досуговая деятельность (Е. А. Макарова, С.Б.Мосейчук, И. Л. Смаргович [16]), традиционные праздники (Е. В. Матвеева [17]) и др. Даже такие феномены, как философствование в среде интеллигенции (Е. В. Бакшутова [2]), одиночество в большом городе (В. Д. Вожжанникова [9]), стремление к достижению справедливости в обществе (А. Г. Смирнов [25]), творческое созидание и разрушение (Н. Н. Суворов [26]), получают свое осмысление в свете актуализации концепта «культурные практики». К сожалению, во многих работах авторы не утруждают себя дать даже определение понятия «культурная практика» в силу, наверное, своей интуитивной очевидности.
Понятие «культурные практики» получило широкое применение и в отечественном научнообразовательном, педагогическом дискурсе, начиная с 1990-х гг. Оно охватывает собой виды деятельности ребенка под руководством взрослого по освоению и преобразованию предметнопространственной среды в целях удовлетворения разнообразных познавательных и прагматических потребностей. В них входят игровая, коммуникативная, познавательная, исследовательская, продуктивная практики, чтение художественной литературы и т.д. Надежда Александровна Короткова, благодаря которой этот термин был введен в отечественную педагогическую науку, подчеркивает, что под ними разумеется «форма партнерства взрослого (их носителя) с детьми» [14, с. 199]. Тем самым культурные практики выступают для детей дошкольного возраста как «стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие» [14, с. 199]. Следует подчеркнуть, что специфика этого понятия в педагогике заключается в фиксации межпоколенческой преемственности культурной традиции общества – от взрослого к ребенку, что мы не видели в западном научном дискурсе. Этот важный аспект понятия «культурные практики» выпадает при его использовании в культурологии. Между тем, обеспечение культурной преемственности поколений должно стать одной из качественных характеристик данного понятия.
Таким образом, анализ многообразных культурных практик акцентирует внимание на конкретном живом человеке, его восприятии текущей ситуации и его роли в истории. А сама культура при этом начинает рассматриваться сквозь призму многочисленных и малосвязанных друг с другом культурных практик как форм ее реализации и проявления. И здесь кроется большая опасность.
В таком представлении культура, по сути, воплощает идеал мультикультурализма с характерным для него размытием ценностного смыслового поля, призванного объединять общество в единое целое. Культура превращается в огромное несистематизированное, не имеющее некоей органичной взаимосвязи пространство самых разнообразных практик, получающих статус культурных только потому, что они являются производными человеческой деятельности.
Например, в учебнике «Культурология», изданном в Воронеже в 2020 г., сказано, что «объектом культурологии выступают все виды и формы духовной человеческой жизнедеятельности в единстве их многообразия и исторической динамике» [15, с. 9]. В этой связи уместно привести в пример и сделанное Мири Рубин определение истории культуры как «истории всего», которая, по ее словам, выходит далеко за пределы «изучения деятельности в сфере высокой культуры», обозначаемой немецким термином “Kulturgeschichte” [40]. В Кембриджском словаре английского языка говорится, что «культура – это образ жизни, в особенности общие обычаи и верования определенной группы людей в определенное время» [36]. Такого рода определения вызывают серьезные вопросы. Нужно ли относить к культуре все, что создается человеком? Является ли культурой, например, человеконенавистнические концепции и соответствующие им формы поведения? Можно ли называть культурой осознанную практику уничтожения культурных ценностей?
Сводить культуру к культурным практикам как принципиально любым формам жизнедеятельности людей, а ее историю к их описанию является, с моей точки зрения, неверным, поскольку неизбежно приведет, во-первых, к опасной бесконечной фрагментации культурного поля, которая может и, скорее всего, будет служить разобщению людей, а во-вторых, грозит обесценить смысл самой культуры, уравнять собственно культурные, наполненные глубокими созидательными духовными смыслами явления и, по сути, антикультурные деяния. Собственно, именно в этом и проявляется, с моей точки зрения, мультикультурализм как направление мысли, придающее равное значение всем проявлениям жизнедеятельности людей.
Поэтому и встает актуальная задача вовлечения многообразных культурных практик в общее дело созидания единого культурного пространства, сплоченного общества на основе разделяемых большинством традиционной системы ценностей, норм, идеалов. Но и здесь важно соблюсти золотую середину, чтобы, формируя общее и единое, не принести ему в жертву уникальное, индивидуальное, неповторимое, чтобы за сохранением традиционного не отказаться от его развития в новых формах и смыслах. В умелом удержании баланса между уникальностью каждой локальной (групповой, этнической, корпоративной, профессиональной и т.д.) культуры и общенациональными, прежде всего, традиционными ценностными установками и системами взглядов заключается искусство грамотной ответственной государственной культурной политики, сочетающей в себе элементы преемственности и новаторства, традиционности и новизны, сохранения и развития.
Чтобы не потеряться в многообразии культурных практик подобно тому, как мы можем утонуть в количестве выходящих научных публикаций, посвященных теме культурной деятельности и культурных практик, нужно установить систематизирующий фильтр, и этот фильтр – ценности, смыслы, объективно способствующие сохранению, упрочению традиционной культуры, единству полиэтничного и многоконфессионального общества. Этот фильтр и будет служить эффективным средством от опасной фрагментации культуры в бесконечных культурных практиках, которые хоть и вовлекают в так называемую культуральную историю максимально возможное количество участников, но все же не способствуют их единству, сплоченности, чувству сопричастности значимым для общества целям и задачам. Также этот фильтр призван отсеивать явления, которые являются антикультурными, античеловеческими.
Собственно культурной может быть признана не любая практика, а только та, что способствует укреплению гармоничных общественных традиционных, выверенных веками истории устоев. Тогда мы уйдем от опасности дурной бесконечности, в которой многообразие культурных форм поглощает собой саму культуру, когда уникальность момента отменяет ценность общего, когда различие полностью нивелирует значимость синтеза и тождества.
В силу этого смыслового контекста следует придерживаться термина «культурная деятельность» как деятельность по продвижению целостной культуры общества, ее основополагающих традиционных ценностей, идеалов, норм и целей, которые всегда сопряжены с задачей упрочения устойчивого общества, его единства и дальнейшего развития. Концепт «культурные практики» в этой связи становится не самостоятельным и не представляющим полноценно сферу культуры, а лишь конкретизирующим фундаментальные установки культуры в рамках единой культурной деятельности в сфере общей государственной культурной политики.
Понятия «культурные практики» и «культурная деятельность» неравнозначны и выражают собой очень разные тенденции в представлении культуры и ее истории. Сводя историю культуры к описанию многообразных культурных практик, мы незаметно, как было выше показано, оказываемся в пространстве мультикультурализма, придающего одинаковое значение самым разным проявлениям человеческого поведения, взглядам, позициям, ценностям, подчас противоположным друг другу и противоречащим традиционным устоям общества. В понятии «культурная деятельность», наоборот, делается акцент на практическом проявлении культуры в ее целостности, культуры, присущей данному обществу, способствующей его единству, сохранению, укреплению и развитию ценностей, норм и идеалов, которые веками сохраняли данное общество от распада и создавали все необходимые условия для его дальнейшего существования. Использование концепта «культурные практики» допустимо только как подчиненный общей и единой культурной деятельности, присущей данному обществу и сохраняющей ценностные основы его бытия. Во избежание двусмысленностей, с нашей точки зрения, лучше употреблять термин «практики культурной жизни» вместо понятия «культурные практики», если только мы не рассматриваем традицию «новой культуральной истории», сферу педагогики и не акцентируем внимание на соответствующих смысловых контекстах.
В этом процессе огромное значение начинают иметь вопросы духовно-нравственных скреп, традиционных смыслов, объединяющих общество, формирования единого культурного пространства. Проблема нахождения гармоничного сочетания уникального и общего, преемственности и новых форм становится существенной в представлении практик культурной жизни в рамках культурной деятельности в реализации общегосударственной культурной политики. Поэтому описание конкретных практик культурной жизни мы всегда должны осуществлять в общем контексте основополагающих общественных смыслов и ценностей.
Чтобы лучше осознать их фундаментальную значимость для развития современной отечественной культуры, для российского общества, нужно вспомнить, к чему привела государственная стратегия отношения к культуре, принятая руководством страны в начале 1990-х. Так называемый Закон о культуре 1992 г. [20] заслуженно вызывал много критики в силу декларируемой позиции принципиального невмешательства государства в творческие процессы кроме их финансирования. Полная отстраненность уполномоченных в сфере культуры госорганов от содержательной составляющей культурных проектов, финансируемых из госбюджета, привела к заметным перекосам, которые стали оказывать негативное воздействие на общество. Неконтролируемость государством реализуемых за государственный счет творческих проектов открыло врата для установления частичного контроля со стороны определенных деструктивных сил, создав почву для омассовления, выхолащивания традиционных ценностей, декультурации и дегуманизации культуры. Депутат Госдумы, народный артист России, член Общественного Совета при Минкульте РФ Николай Бурляев оценил сложившуюся в то время практику как «бомбу замедленного действия», когда «гранты от Минкульта получают безнравственные и антироссийские проекты». Он вспомнил посыл первого президента России Б. Н.Ельцина, чтобы чиновники только платили деньги, а художник имел право делать все, что захочет. К чему мы пришли – мы видим [3]. Это показывает, что так называемые культурные практики могут становиться, по сути, антикультурными, размывающими культурные основы общества. Поэтому не все формы жизнедеятельности людей должны быть признаны культурными, а только те, которые имеют созидательный, объединяющий, гармонизирующий характер.
Гармонизация отношений между сферой культуры, государственным контролем и национальными интересами должна быть положена в основу закона о культуре. Понятие культурной деятельности включает в себя многочисленные практики культурной жизни и культурные индустрии, которые должны служить делу единения общества в разнообразных индивидуальных формах и проявлениях. Это тот посыл, который мы не видим в теоретических подходах сторонников новой культуральной истории и новой исторической науки.
Сколько бы ни было цветочков на цветущем дереве, как бы мы ни были увлечены описанием конкретных цветочков, мы всегда должны помнить, что они – производное одного дерева, и если они в гармонии друг с другом, то создают красивый ладный ансамбль, радующий глаз и дарящий вдохновение мирной и счастливой жизни.