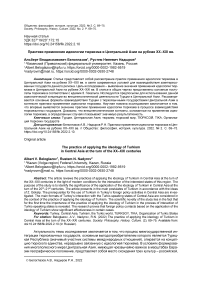Практики применения идеологии тюркизма в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв
Автор: Белоглазов Альберт Владиславович, Надыров Рустем Нилевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой рассмотрение практик применения идеологии тюркизма в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв. в свете современных условий для взаимодействия заинтересованных государств данного региона. Цель исследования - выявление значения применения идеологии тюркизма в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв. В статье в общих чертах представлены основные постулаты тюркизма в соответствии с идеями З. Гёкальпа. Исследуются предпосылки для использования данной идеологической концепции во внешнеполитической деятельности Турции в Центральной Азии. Рассматриваются основные форматы взаимодействия Турции с тюркоязычными государствами Центральной Азии в контексте практики применения идеологии тюркизма. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выявляется значение практики применения идеологии тюркизма в процессе взаимодействия тюркоязычных государств. Доказано, что внешнеполитические контакты, основанные на применении идеологии тюркизма, в определенных случаях показывают значимую результативность.
Турция, центральная азия, тюркизм, тюркский мир, тюрксой, организация тюркских государств
Короткий адрес: https://sciup.org/149138923
IDR: 149138923 | УДК: 327“19/20”:172.15 | DOI: 10.24158/fik.2022.2.10
Текст научной статьи Практики применения идеологии тюркизма в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв
1,2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия , ,
,
,
синской и тюрко-мусульманской. В связи с этим центральноазиатские политические процессы обладают определенным потенциалом влияния на Российскую Федерацию, что требует изучения их причин и условий.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: во-первых, представить взаимосвязь концепции тюркского единства и идеологии тюркизма; во-вторых, рассмотреть предпосылки для использования тюркизма во внешнеполитической деятельности Турции в Центральной Азии; в-третьих, определить приоритетные направления практики применения идеологии тюркизма в Центральной Азии.
При работе над статьей применялись следующие методы исследования: историко-генетический, проблемно-хронологический, контент-анализ и системный метод.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его положения и выводы могут использоваться в дальнейших научных исследованиях международных отношений в Центральной Азии с точки зрения взаимодействия тюркоязычных государств, а также в практике подготовки специалистов-международников, востоковедов и регионоведов.
«Тюркский мир» как явление международно-политическое – один из феноменов, созданный внешнеполитической активностью Турецкой Республики, основанной на ее понимании концепции тюркского единства.
Турецкая концепция тюркского единства есть не что иное, как приведенная в соответствие с политическими реалиями, в первую очередь, определяемыми возможностями Анкары, идеология тюркизма.
Традиционно под тюркизмом принято понимать идеологию, целью которой являлось единение тюркских народов (Landau, 1981: 51). При этом для осмысления концепции тюркского единства можно использовать современное толкование тюркизма, предложенное одним из отечественных исследователей, согласно которому тюркизм – это система взглядов, компилирующая пропаганду единства, братства и сотрудничества тюркских народов, но в условиях их «свободы и независимости» (Мухамметдинов, 1996: 10). Турецкая концепция тюркского единства, будучи производной от идеологии тюркизма, имеет ту же доктринальную основу, что и сама идеология, а именно – совокупность взглядов З. Гёкальпа.
Зия Гёкальп – османско-турецкий представитель первой волны идеологов тюркизма, за которым «большинство турецких историков» признают «главенствующую роль» в формировании положений концепции (Киреев, 2007: 89).
Перу Гёкальпа принадлежит стихотворное произведение «Turan», содержащее указание на родину тюрок: «Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan» («Родина тюрка (турка) не Турция, не Туркестан, его родина – великая и вечная страна Туран»)1. Однако никакого представления о местоположении этой родины получить из произведения невозможно. Допустимо лишь предположение, что границы Турана, вероятно, шире, нежели современные автору (исходя из даты написания стихотворения – 1911 год) географические границы расселения турок-османов и границы Туркестана как существующего географического региона. Вместе с тем именно Туран в идеалистическом понимании Гёкальпа и есть тот самый идеал, пределы которого должен охватывать «тюркский мир». Таким образом, Гёкальп сознательно вводит в идеологическую систему географическую компоненту, что имело колоссальное значение для развития концепции. Ибо, в отличие от И. Гаспринского, апеллировавшего к носителям тюркских языков «от босфорских лодочников до верблюжьих погонщиков Кашгара» (Гаспринский, 1993: 88), то есть непосредственно к целевой аудитории, З. Гёкальп делает упор на территорию расселения тюркоязычных народов, границы которой обособляют «родину», тем самым фактически выражая готовность игнорировать интересы носителей иной идентичности, оказавшихся в пределах «родины». В этих рассуждениях Гёкальпа, которые будут им развиты в труде «Основы тюркизма» («Türkçülüğün Esasları»), следует искать предпосылки к конструированию конституционного положения о том, что «все граждане Турции – турки». Здесь же важно отметить, что Центральная Азия в контексте идеологии тюркизма впервые обособленно упоминается под топонимом «Туркестан» в стихотворении «Туран».
Сочинение З. Гёкальп «Основы тюркизма», обоснованно характеризуемое как «квинтэссенция всего, что написал ученый» (Мухамметдинов, 1996: 140), выходит в свет в 1923 году и представляет собой идеологическую программу тюркизма, содержащую в том числе и геополитический элемент. Тюркизм, по Гёкальпу, включает в себя три элемента: туркизм, огузизм или турк-менизм, туранизм (тürkiyecilik, оğuzcılık yahut тürkmencilik, тurancılık) (Gökalp, 1968: 25). Последо- вательность определена автором исходя из сложности, продолжительности и достижимости соответствующей составляющей. Причем все они обладают геополитическими характеристиками разной степени выраженности. Так, явно обозначенные геополитические элементы тюркизма туркменизм и туранизм заявлены автором как «ближняя цель» (yakın hedef) и «далекий идеал» (uzak mefkur) соответственно (Gökalp, 1968: 23). Примечательно, что автор не сомневается в реализуемости программных установок в отношении туркизма (Gökalp, 1968: 25) и туркменизма (Gökalp, 1968: 23). Вместе с тем, если в отношении туркизма, рассматриваемого преимущественно как внутриполитический элемент, высказанный оптимизм можно было полагать обоснованным, то в отношении туркменизма, понимаемого как объединение тюрок-огузов, этот вопрос является весьма дискуссионным. Ибо под современными ему огузами (Oğuz Türkleri) Гёкальп понимал тюрок Турции, Азербайджана, Ирана и Хорезма (Gökalp, 1968: 18), то есть в том числе и тюрок, проживающих за пределами юрисдикции Турции. Говоря о Туране как о далеком идеале, несмотря на отсутствие понимания сроков его достижения (Gökalp, 1968: 25), Гёкальп более реалистичен, поскольку призывает своих последователей стремиться к языковому, литературному, культурному объединению тюркоязычных народов («Türkçülerin uzak mefkuresi, Turan adı altında birleşen Oğuzları, Tatarları, Kırıgzları, Özbekleri, Yakutları lisanda, edebiyatta, harsta birleşmektir» («Далекая мефура тюрков заключается в объединении огузов, татар, крымчан, узбеков, якутов на языке, литературе, харде, которые объединяются под названием Туран»)) (Gökalp, 1968: 24). Отдельного внимания заслуживает упоминание якутского народа, что символизирует готовность Гёкальпа обращаться к доисламскому прошлому тюркоязычных народов.
Несмотря на то, что официальные лица Турецкой Республики с завидным постоянством опровергают ключевую роль идеологии пантюркизма в формировании идейно-ценностной основы политического процесса государства (Парубочая, 2011: 113), на практике их приверженность этим идеям безусловна, что находит свое отражение в особенностях внешней и внутренней политики государства1.
Основополагающие взгляды и мысли Мустафы Кемаля Ататюрка, «относящиеся к государственной, духовной и экономическим областям жизни страны» (Мухамметдинов, 1996: 157), представленные в виде принципов и закрепленные в Конституции страны, сформировали официальную идеологию Турции, известную как кемализм, или ататюркизм. Об этом свидетельствует первое предложение преамбулы действующей Конституции Республики в завершающей его части, где говорится о соответствии основного закона национализму, революции и принципам Ататюрка: «Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda» («Эта Конституция определяет вечное существование Турецкой родины и нации и неделимую целостность Высшего Турецкого государства, в соответствии с пониманием национализма и Его революциями и принципами, установленными основателем Турецкой Республики, бессмертным лидером и уникальным героем Ататюрком»)2.
Идеология ататюркизма, ставшая основой внутренней и внешней политики Анкары, как полагают отечественные исследователи, есть логическое продолжение эволюционировавшего под воздействием исторических реалий идеологического наследия Османской империи, в первую очередь, идей З. Гёкальпа3. «Краеугольным камнем идеологии истеблишмента Турции является кемализм, который в свою очередь тесно связан с идеологией турецкого национализма (тур-кизма)», – пишет Р.Ф. Мухамметдинов, далее указывая на то, что туркизм «исторически сформировался на базе идеологии тюркизма» (Мухамметдинов, 2006: 176).
Мустафа Кемаль и сам не был чужд идеям Гёкальпа. Так, еще в 1933 году он призывал соотечественников быть готовыми к распаду Союза Советских Социалистических Республик и, указывая на тюркские народы составлявших его государств, вменял Турции в обязанность «принять» их под свое покровительство в случае такого развития событий4.
Возвращаясь к постсоветской Центральной Азии в контексте идей Гёкальпа, необходимо отметить ключевое значение региона в деле тюркского межгосударственного сотрудничества, поскольку и «ближняя цель» тюркизма, и его «далекий идеал» неразрывно связаны с центральноазиатскими тюркоязычными народами.
Выявленные идеологические особенности, а также значение Центральной Азии позволяют понять мотивы, побудившие Т. Озала и С. Демиреля в 1992 году к созданию на высшем республиканском уровне межтюркской координационной структуры – «Агентства тюркского сотрудничества и развития» («Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı»). Единственной целью данной организации на момент ее создания являлось руководство действиями, направленными на единение тюркских государств под турецким началом через взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах в социальной, экономической и культурной сферах1.
На сайте «Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı» (TIKA) в разделе «Нakkımızda» («О нас») приведены сведения, позволяющие составить представление о причинах создания агентства, среди которых наибольшую ценность имеет абзац, в котором раскрыты мотивы, побудившие Анкару к сотрудничеству с другими государствами: «25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmış, Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazanmıştır. Türkiye, o günlerde bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerini tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan oluşan bu devletlerle ortak bir dile, ortak bir hafızaya ve ortak bir kültüre sahip olmamız ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Türkiye ve Orta Asya ülkelerine, tek milletin farklı devletleri gibi davranmış; dış politikamız bölgede çok yönlü ve proaktif bir anlayış sergilemiştir. Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerimiz Türkiye’nin eskimeyen vizyonu olmuş ve bu vizyon küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazanmıştır» («25 декабря 1991 года распался СССР, и многие государства в Центральной Азии и на Кавказе получили независимость. Турция стала первой страной, которая признала тюркские республики, ставшие независимыми в те дни. Общий язык, общая память и культура, объединявшие нас с Казахстаном, Туркменией, Узбекистаном, Азербайджаном и Киргизией, послужили основой для укрепления двусторонних и региональных отношений. Турция и страны Центральной Азии взаимодействовали как разные государства одного народа (нации), а наша внешняя политика продемонстрировала всестороннее и проактивное понимание региона. Такие отношения с тюркоязычными странами стали для Турции не теряющим актуальность политическим курсом (непреходящим виденьем), и этот курс (виденье) занял важное место в глобальной политике последних 20 лет»)2. Также из сведений, размещенных в разделе «Нakkımızda», следует, что первый зарубежный офис агентства был открыт в Туркменистане3.
Изложенное свидетельствует о том, что действия турецкого руководства – результат следования политико-идеологическим заветам З. Гёкальпа: выбор в пользу Туркменистана есть устремление, направленное на достижение «ближней цели», сопряженное с созданием предпосылок для реализации «далекого идеала».
Упоминая Туркменистан, нельзя не отметить и то, что последний способен не только нести идеологическую нагрузку связующего звена в соответствии с воззрениями З. Гёкальпа, но и обладает географическим потенциалом стать реальным «мостом» с точки зрения «объединения» пяти постсоветских тюркоязычных государств. Это связано с тем, что устройство условного транспортного коридора Азербайджан – Центральная Азия над или под Каспийским морем в силу геологических и гидрологических факторов, а также правовых предпосылок («Конвенция о правовом статусе Каспийского моря»4) наиболее целесообразно осуществлять через побережье Туркменистана. Примечательно и то, что Турция признала независимость Туркменистана 27 октября 1991 года, до аналогичного шага в отношении Азербайджана, признанного Анкарой суверенным государством лишь 30 ноября 1991 года, несмотря на то, что акт о независимости был принят Верховным Советом Азербайджанской ССР еще 30 августа 1991 года.
Важным межгосударственным событием, ориентированным на достижение «цели» и продвижение к «идеалу», положившим начало сотрудничеству между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Турецкой Республикой, стал состоявшийся 30– 31 октября 1992 года в Анкаре первый саммит глав тюркских государств, в котором участвовали президенты всех независимых тюркоязычных стран.
Наиболее значимое с точки зрения представлений З. Гёкальпа межгосударственное событие состоялось в 1993 году. 12 июля в Алма-Ате министрами культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции был подписан «Договор о структуре и принципах функционирования “ТЮРКСОЙ”» (Türksoy'un kuruluşu ve faaliyet ilkeleri hakkinda anlaşma)1. Этим документом было предусмотрено, что ТЮРКСОЙ создается «в целях лучшего взаимопонимания между тюркоязычными странами и народами, дальнейшего сближения и упрочения многосторонних культурных связей, приобщения будущих поколений к истокам национальной культуры», «учитывая непреходящее значение культуры тюркских и прототюркских народов в сложении общечеловеческой цивилизации, необходимость сохранения, возрождения и дальнейшего развития культуры и искусства тюркских народов»2, то есть в целях, соответствующих предписаниям Гёкальпа, от исполнения которых зависит возможность перехода в туранизму.
Таким образом, можно говорить о том, что в 1992–1993 годах на основании идеологии тюркизма сформировалось два тренда в сфере сотрудничества тюркоязычных государств: международно-политический и культурно-гуманитарный.
Вместе с тем не все начинания, основанные на тюркизме, оказались одинаково эффективными. Так, взаимодействие по линии TIKA, предполагающее определенную финансовую помощь Турции взамен на различного рода проявления лояльности со стороны реципиентов, не продемонстрировало высоких результатов. Как следствие, «Агентство тюркского сотрудничества и развития», изначально задумывавшееся именно как «тюркское», эволюционировало в сторону расширения географии от «Центральной Азии и Балкан до Африки, Латинской Америки и островов Тихого океана»3, тем самым превратившись в «турецкое».
Международно-политическое сотрудничество тюркоязычных государств, начинавшееся в рамках саммитов глав государств, получило свое развитие и к настоящему времени перешло на уровень институционального сотрудничества – была создана Организация тюркских государств. Однако это оказалось возможным исключительно благодаря усилиям турецкой стороны, поскольку не все тюркоязычные государства проявляли одинаковую заинтересованность в таком варианте сотрудничества. Только первые четыре саммита прошли с участием всех глав независимых тюркоязычных государств. Кроме уже названного саммита в Анкаре, состоялись встречи: в Стамбуле – в 1994 г., в Бишкеке – в 1995 г. и в Ташкенте – в 1996 г. После саммитов в Астане в 1998 году, в Баку в 2000 году и в Стамбуле в 2001 году встречи международного уровня не проводились вплоть до организации саммита в Анталии в 2006 г. Поворотным стал Нахичеванский саммит, прошедший 3 октября 2009 года, итогом которого явилось Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств4. Вместе с тем среди государств, подписавших в 2009 году Нахичеванское соглашение, не было Узбекистана и Туркменистана. Узбекистан ратифицировал документ о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств лишь в 2019 году5. При этом Туркменистан до сих пор остается в статусе наблюдателя Организации тюркских государств6.
Культурно-гуманитарное сотрудничество тюркоязычных государств в рамках деятельности организации ТЮРКСОЙ показало высокую степень стабильности и эффективности. Даже в моменты охлаждения межгосударственных отношений между Турцией и Узбекистаном7 культурное взаимодействие стран продолжалось8. «Встречи художников, оперные фестивали, литературные конгрессы и другие форумы, ставшие традиционной площадкой обмена опытом деятелей культуры и науки тюркского мира»1, проводимые ежегодно, позволяют заложить основу для языкового, литературного и культурного объединения тюркоязычных народов.
Инициативы ТЮРКСОЙ вовлекали в свою орбиту представителей всех тюркоязычных государств. Так, к участию в рамках проекта «Культурная столица тюркского мира» были привлечены периодически индифферентные к иным формам взаимодействия Туркменистан и Узбекистан. В 2015 году таковой был объявлен город Мары (Мерв) (Туркменистан), а в 2020 году – Хива (Узбекистан). В рамках реализации тематических проектов было организовано празднование Навруза с участием сотен артистов из тюркских стран в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, США2. Итогом этого начинания стала нашедшая поддержку Генеральной Ассамблеи ООН совместная инициатива Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и ряда других государств о признании 21 марта Международным днем Навруз3.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам.
Популяризируемая Турцией концепция тюркского единства фактически представляет собой систему идей, основанную на идеологии тюркизма как совокупности взглядов З. Гёкальпа.
Постсоветская Центральная Азия стала для Анкары особо значимым регионом, поскольку в нем находится преимущественное большинство тюркоязычных государств мира, интеграция Турции с которыми является необходимым условием для достижения тюркистского идеала.
Практики применения идеологии тюркизма в Центральной Азии показали, что они обладают достаточным потенциалом для достижения общетюркской культурно-гуманитарной интеграции, а также для реализации проектов глубокого политического сотрудничества. Однако подобные практики плохо проявили себя в финансовом взаимодействии стран.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении взаимодействия Турции и государств Центральной Азии в рамках деятельности международных организаций, созданных с целью тюркской интеграции.
Список литературы Практики применения идеологии тюркизма в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв
- Гаспринский И. Россия и Восток. Казань, 1993. 132 с.
- Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007. 608 с.
- Мухамметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. Казань, 1996. 272 с.
- Мухамметдинов Р.Ф. Идейно-политические течения в постсоветском Татарстане (1991-2006 гг.) (сопоставление с опытом Турции). Казань, 2006. 232 с.
- Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств (1992-2001 гг.): реальная платформа для сближения? // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2011. № 1 (19). С. 113-120.
- Gökalp Z. Türkgülügün Esaslari. Yedenci basilis. Istanbul, 1968. 176 s. (на турец. яз.).
- Landau J. Pan-Turkism in Turkey. A Study of Irredentism. L., 1981. 219 р.