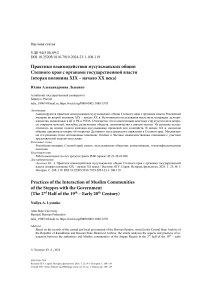Практики взаимодействия мусульманских общин степного края с органами государственной власти (вторая половина XIX - начало XX века)
Автор: Лысенко Ю.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализируются практики коммуникации мусульманских общин Степного края с органами власти Российской империи во второй половине XIX - начале ХХ в. Источниками исследования выступили материалы делопроизводства, выявленные в ЦГА РК и РГИА. Отмечается, что в компетенцию властных структур входили вопросы открытия мечетей, мектебов, религиозных обществ, паломничества к святым местам. Их решение осуществлялось на основе подачи казахами-мусульманами прошений или ходатайств. В начале ХХ в. казахские общины продвигали вопрос об открытии Духовного мусульманского правления в Степном крае. Механизмами его решения стали петиционные кампании, Особые и Частные межведомственные совещания с участием представителей казахов-мусульман.
Российская империя, степной край, власть, мусульманские общества, коммуникации, этноконфессиональная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243530
IDR: 147243530 | УДК: 94(510).09:2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-108-119
Текст научной статьи Практики взаимодействия мусульманских общин степного края с органами государственной власти (вторая половина XIX - начало XX века)
,
,
Как известно, реформы 60–80 гг. XIX в. в Российской империи сопровождались усилением социальной мобильности населения, активизацией и политизацией общественной жизни, формированием элементов гражданского общества – партий и объединений. Активное участие в данных процессах принимали этноконфессиональные группы страны. Следствием становилось усложнение практики коммуникации власти и общества, направленных на конструктивное решение тех или иных проблем.
Степной край, присоединение которого к России завершалось в 60-е гг. XIX в., включался в орбиту имперских социальных трансформаций. При этом следует отметить, что в регионе преобладало мусульманское население, представленное казахами, татарами, башкирами и некоторыми другими этносами. По данным первой всероссийской переписи 1897 г., в Уральской области удельный вес мусульман от общей численности населения составлял 74,15 %, в Тургайской – 90,99 %, Акмолинской – 64,43 %, Семипалатинской – 89,71 % 1. Поэтому «исламский вопрос» являлся одним из приоритетных в системе администрирования Степного края.
В рамках Временного положения об управлении в степных областях 1868 г. была сформирована специфическая модель регулирования жизни мусульманских общин Степного края. Так, татарские общества данного региона остались в юрисдикции Оренбургского мусульманского духовного собрания – общеимперского органа управления мусульманским населением страны, созданного еще в конце XVIII в. Казахские религиозные общины изымались из его ведения и передавались в компетенцию МВД, на региональном уровне – военным губернаторам областей и степному генерал-губернатору. Это обстоятельство предопределило активное включение властных структур в процесс взаимодействия с мусульманским населением Степного края.
Практики коммуникации органов власти Российской империи с различными социальными группами достаточно детально представлены в исторической литературе. В ней отмечается, что происходило поэтапное развитие центральных и региональных структур, нацеленных на взаимодействие с обществом [Гражданская идентичность…, 2007; Миронов, 2009; Гайдученко, 2014; Ремнев, 2015; Савичева, 2020; Лыскова, 2007]. Анализируются различные фор- маты работы власти – как с отдельными гражданами, так и с общественными объединениями, – которые представляли собой «столкновения разного рода имперских, национальных, социальных, экономических и культурных практик» [Ремнев, 2004]. Отдельное внимание в историографии уделяется истории Особых межведомственных и Частных совещаний, собиравшихся, в том числе, для решения духовных аспектов развития мусульманских общин с привлечением их представителей [Хасаншин, 2020; Плахотник, 2020].
Вопросы взаимодействия органов власти с казахскими мусульманскими общинами Степного края во второй половине XIX – начале ХХ в. в исторической литературе представлены фрагментарно. Отдельные аспекты и механизмы данной коммуникации рассматриваются в контексте исследований этноконфессиональной политики Российской империи в регионе [Ланда, 1995; Каппелер, 1996; Исхаков, 2004; Лысенко и др., 2014]. Настоящее исследование представляет попытку восполнить данный историографический пробел.
Для подготовки статьи привлекались материалы делопроизводства центральных и региональных органов государственной власти – МВД, Канцелярии Степного генерал-губернатора и военных губернаторов Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей. Среди них: межведомственная переписка, отчеты о работе Особых и Частных совещаний, всеподданнейшие отчеты степного генерал-губернатора, прошения, ходатайства и петиции казахского населения, протоколы заседаний областных правлений и присутствий, мнения отдельных чиновников по запрашиваемым вопросам. Основной массив источников выявлен в РГИА и ЦГА РК и впервые вводится в научный оборот. Кроме этого привлекались делопроизводственные материалы, опубликованные в документальных сборниках. В статье использовался историко-генетический метод, позволивший определить спектр проблем духовной жизни казахского населения Степного края. Историко-сравнительный метод позволил выявить практики взаимодействия органов власти и мусульманских общин исследуемого региона, зафиксировать системность и коммуникативность действий имперской власти и общественных сил в их решении.
Последовательное распространение на протяжении второй половины XIX в. на мусульманское общество Степного края общеимперского законодательства, регламентировавшего духовную сферу, способствовало установлению новых практик его взаимодействия с центральными и региональными властными структурами. Их спектр определялся своеобразием данного законодательства, для которого, как отмечают исследователи, «было характерно наличие значительного количества правовых норм, которые принято считать ограничительными» [Лысенко и др., 2014, с. 144].
Так, по Временным положениям об управлении степными областями 1868 и 1891 гг., мусульманские общины региона были разделены по этническому признаку. Вопросы открытия татарскими обществами новых мечетей, мектебов и медресе, назначения в них мулл и муда-рисов, как указывалось выше, оставались в ведении Оренбургского мусульманского духовного собрания 2.
Казахские мусульманские общины по Положениям 1868 и 1891 гг. стали подведомственны МВД и военным губернаторам степных областей. На должность волостного муллы избирались только казахи, при этом утверждались и устранялись от должности решением военных губернаторов областей. Их число ограничивалось – по Положениям разрешалось иметь в каждой волости по одному мулле. Они также отстранялись от ведения метрических книг, рассмотрения брачных и семейных дел, которые передавались в ведение народного бийского суда, обязаны были выплачивать налоги и нести повинности наравне с остальным населением. Вмешательство мулл в названные дела расценивалось как самовольное присвоение власти [Лысенко, 2019].
Строительство мусульманских культовых учреждений в Акмолинской и Семипалатинской областях осуществлялось после официального разрешения со стороны Степного гене- рал-губернатора, в Уральской и Тургайской – Министерства внутренних дел. Законодательно ограничивался рост численности мечетей, их разрешалось иметь не более одной на волость. Мусульманские общины обязывались содержать мечети и духовных лиц 3.
Ограничительные тенденции законодательства в сфере регламентации духовной жизни казахского населения объективно способствовали росту его этнического сознания, усилению процессов этнической интеграции и осознанию своей конфессиональной принадлежности к мусульманам Российской империи. Поэтому на протяжении второй половины XIX в. фиксировались процессы исламизации казахского общества, что выражалось в активизации его стремлений к открытию новых мечетей, мектебов, совершению паломничества к святым местам. В практической плоскости это нашло выражение в установлении постоянной коммуникации с властными структурами Степного края, основной формой ее взаимодействия стали прошения.
Как свидетельствуют архивные данные, наибольшее количество прошений мусульманских казахских обществ в 70–90-е гг. XIX в. было связано с открытием новых мечетей и назначением в них мулл. Согласно ст. 99 Степного положения от 1891 г. возведение мечетей в Акмолинской и Семипалатинской областях санкционировалось степным генерал-губернатором. Устав строительный 1893 г. устанавливал процедуру данной санкции. Мусульманскому обществу необходимо было представить приговор / решение, в котором подтверждалась его готовность возводить здание мечети на собственные средства, как и содержать муллу при ней. Законом также предусматривалось, что в проектируемой к открытию мечети «должно быть прихожан не менее 200 чел м. п.». Строительство мечети разрешалось в тех регионах, где не проживали новокрещеные христиане, бывшие мусульмане. Просители в рамках Устава строительного должны были с пакетом документов в канцелярию степного генерал-губернатора предоставить план будущей мечети, подписанный областным архитектором. Для этого в Российской империи были разработаны и изданы типовые планы мечетей, распространенные в регионах с проживанием мусульманского населения.
Делопроизводственные документы МВД свидетельствуют о том, что региональные власти до конца ХIХ в. достаточно часто «ввиду постоянного стремления правительства к ограничению дальнейшего развития исламизма среди казахов не признавало возможным удовлетворять» ходатайства об открытии мечетей в аулах. Это порождало массовое строительство мечетей в степи без официального разрешения властей. По факту выявления незаконного строительства мечетей, военные губернаторы назначали «служебное разбирательство», по результатам которого составлялся акт. На его основании губернатор принимал решение о закрытии мечети, о чем он был обязан извещать мусульманскую общину 4.
В начале ХХ столетия от контроля за процессом строительства мечетей отказались. Это было связано с либерализацией жизни российского общества в постреволюционный период. Кроме того, у региональной администрации отсутствовала возможность контроля процесса строительства мечетей. Поэтому в практике Департамента духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) МВД имели место случаи, когда в Уральской и Тургайской областях разрешалось беспрепятственное строительство второй мечети в одной волости 5.
Центральные органы власти были вынуждены также принимать участие в разбирательствах нестандартных ситуаций, связанных с открытием мечетей и медресе. Так, в октябре 1905 г. через военного губернатора Тургайской области А. А. Ломачевского к министру внутренних дел с докладной запиской обратились представители казахов Тургайской области Баймухаммед Наурузбаев, Бермухаммед Алдаиаров и Ильджан Уразов. В ней они жаловались на региональную администрацию и нарушения ею прав казахов «в совершении общественного богослужения в частновладельческих молитвенных домах и опечатания полицией подобных заведений». Ссылаясь на пункт 6 Высочайшего указа 12 декабря 1904 г. «о приня- тии мер к установлению в религиозном быту иноверцев всякого прямо в законе неустановленного стеснения», уполномоченные от казахской мусульманской общины «ходатайствовали о предписании Тургайскому областному начальству не препятствовать казахам совершать общественные молитвы в молельнях и молитвенных домах, не опечатывать их и не привлекать за это к ответственности» 6.
ДДДИИ МВД для уточнения сведений, изложенных в ходатайстве, обратился к военному губернатору Тургайской области с просьбой о разъяснении ситуации. Через месяц, в декабре 1905 г. А. А. Ломачевский представил ответ, в котором подтвердил все перечисленные в ходатайстве случаи как «имевшие место». При этом венный губернатор подчеркивал, что в своих действиях он придерживался указаний МВД и действовал в рамках установленного законодательства 7.
Ответ А. А. Ломачевского не удовлетворил ДДДИИ МВД. В июле 1906 г. Департамент сделал запрос в Министерство юстиции о правомочности действий региональной администрации 8. В конце сентября 1906 г., после анализа полученного заключения, Департамент направил военному губернатору Тургайской области А. А. Ломачевскому итоговое решение по ходатайству казахов Тургайской области Баймухамеда Наурузбаева, Бермухамеда Алдиа-рова и Ильджана Уразова. В нем подчеркивалось, что региональная администрация действовала в рамках закона и предписаний МВД, поэтому жалоба признавалась необоснованной». Заключение ДДДИИ МВД направлялось просителям 9.
В Акмолинской и Семипалатинской областях решение об открытии новых мечетей, согласно действующему законодательству, принимал степной генерал-губернатор. Однако казахская мусульманская община имела возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции – МВД или Правительственном сенате. Примером может служить история с преобразованием мечети г. Акмолинска в соборную. В 1898 г. ее прихожане – татарская мусульманская община – обратились с прошением к военному генералу Акмолинской области 10. В марте 1899 г. военный губернатор признал ходатайство «не заслуживающим внимания», на том основании, что данный вопрос не входит в его сферу администрирования. В 1902 г. аналогичное прошение было направлено степному генерал-губернатору Н. Сухоти- 11 ну, который также «не признал возможным удовлетворить означенное ходатайство» .
После этого мусульмане Акмолинска через своего доверенного А. Рябова направили жалобу в Правительственный сенат «на отказ акмолинского военного губернатора и степного генерал-губернатора в удовлетворении ходатайства о переименовании мечети из простой в соборную». Правительственный сенат, как свидетельствуют архивные данные, дважды рассматривал поступившее прошение-жалобу – в 1902 и 1906 гг. Окончательное решение Правительственного сената по данному прошению выявить не удалось. Судя по архивным документам, в 1906 г. оно было принято и доверенному А. Рябову поручалось довести его до мусульман мечети г. Акмолинска. Однако выяснилось, что А. Рябов еще в 1905 г. выехал из страны в Маньчжурию 12.
Прошения паломников-казахов о выдаче заграничных паспортов для поездки в Мекку и Медину также стали одной из распространенных форм их взаимодействия с региональной администрацией. Как свидетельствуют материалы делопроизводства, масштабы обращений в местные органы власти с ходатайствами о выдаче заграничных паспортов увеличивались на протяжении второй половины XIX в. В 1901 г. степным генерал-губернатором было выдано
224 разрешения на паломничество мусульман Акмолинской области, 156 паспортов паломникам Семипалатинской области.
Процедура получения загранпаспорта регламентировалась на законодательном уровне. Первоначально требовалось согласие аульного общества на паломничество своего сородича к святым местам. Поскольку путешествие занимало продолжительное время, аульное общество должно было подтвердить обязательства по выплате за паломника всех налогов. После получения такого согласия составлялось прошение от одного человека или группы лиц на имя уездного начальника с просьбой о выдаче загранпаспорта. Далее прошения поступали в областные правления, проводилась проверка просителей на предмет «благонадежности имперской власти»: имелись ли случаи их участия в антиправительственных действиях или иных нарушениях / преступлениях. Для региональных властей также важно было понимать, имеются ли у просителей средства на совершение длительного путешествия, проживание в святых местах и возвращение. После процедуры проверки личностей, прошения направлялись в канцелярию Степного генерал-губернатора. Военные губернаторы областей в сопроводительном письме главе региона представляли заключение о благонадежности просителя и отсутствии препятствий к паломничеству 13.
Для оформления заграничного паспорта в уездных канцеляриях казахи выплачивали госпошлину в размере 10 руб. После получения загранпаспорта в канцелярии степного генерал-губернатора оформлялась расписка, в которой паломники обязывались совершить поездку по определенному российским законодательством маршруту «морским путем через черноморские порты Российской империи» и «возвратиться в пределы той же империи также морским путем не иначе, как через Феодосию» 14.
Анализ делопроизводственной документации канцелярии Степного генерал-губернатора позволяет сделать вывод о своевременном рассмотрении прошений от казахов-паломников и выдаче им загранпаспортов в указанные в прошениях сроки. Отказы делались в том случае, если областная администрация находила препятствия к совершению поездки. Но таких дел встречено в архивах в небольшом количестве. Принятие прошений о паломничестве уездными правлениями Степного края было приостановлено лишь однажды, в конце 90-х гг. XIX в., что было связано с эпидемией чумы на Ближнем Востоке 15.
В начале ХХ в. среди мусульманского населения Степного края усиливались процессы их интеграции в общеимперское мусульманское движение. События Первой русской революции и последовавшие выборы в Первую Государственную думу, значительно активизировали деятельность мусульманских общин региона в сфере расширения их религиозных прав и устранения правовых ограничений в духовной жизни.
Важным результатом революционных событий 1905–1907 гг. стало утверждение 4 марта 1906 г. императором Николаем II Временных правил об обществах и союзах. Правила упрощали процедуру регистрации общественных, в том числе религиозных, организаций. Согласно ст. 2 для этого не требовалось правительственного разрешения, достаточно было обратиться к региональным органам власти. Мусульмане Степного края активно использовали данные возможности, что способствовало интенсификации их отношений с местной администрацией.
Так, в январе 1908 г. на имя губернатора Тургайской области И. М. Страховского поступило заявление от жителей Актюбинска с просьбой о регистрации мусульманского просветительно-благотворительного общества. Инициатива открытия общества принадлежала лидерам татарской диаспоры Актюбинска А. Морозову, С. Г. Алюкову, Г. С. Губайдуллину, М. Г. Далатказину, Ф. Ф. Забирову, З. Ш. Шарафутдинову 16. Год спустя после регистрации общества Актюбинска, в 1910 г., на основании проведенного «местного дознания» И. М. Стра- ховской, воспользовавшись правом, которое ему предоставляли Временные правила об обществах и союзах (ст. 33, 36), отдал распоряжение о его закрытии 17.
Лидеры Актюбинского мусульманского общества, получив уведомление о закрытии на основании ст. 38 Временных правил, обратились в Первый департамент Правительствующего сената с ходатайством об обжаловании принятого Тургайским областным присутствием решения. За этим последовало разбирательство, длившееся до весны 1911 г. Как свидетельствуют архивные данные, оно сопровождалось интенсивной перепиской, в которую были вовлечены фактически все административные звенья региональной власти – от уездной до областной. В результате Правительствующий сенат признал действия областного правления обоснованными и подтвердил правомочность закрытия общества 18. После этого мусульманская община Актюбинска еще дважды, в октябре 1912 г. и январе 1913 г., обращалась с ходатайством к губернатору Тургайской области о регистрации ее просветительно-благотворительного общества, но безрезультатно [Лысенко и др., 2014].
Следует отметить, что обращение религиозных мусульманских организаций с ходатайствами о регистрации к местным органам государственной власти имели место и в других областях Степного края. Однако, в отличие от положительно решаемых вопросов о строительстве новых мечетей, открытии мектебов и назначении новых мулл, ни одно из ходатайств об учреждении мусульманских общественных организаций не было удовлетворено.
Данная ситуация объясняется исследователями стремлением региональной власти следовать официальному курсу сдерживания исламизации Степного края. Наиболее ярко данная позиция проявились во взаимодействии с мусульманскими общинами Степного края в вопросе о создании отдельного духовного управления. Как отмечалось выше, духовные дела казахов-мусульман с 60-х гг. XIX в. были изъяты из ведения Оренбургского мусульманского духовного собрания. Уже в 80-е гг. XIX столетия от казахского населения в государственные инстанции стали поступать прошения с просьбами об открытии для них «особого муфтия и духовного собрания». Так, прошения по этому вопросу от мусульман Уральской и Тургай-ской областей поступали в ДДДИИ и министру внутренних дел Д. А. Толстому дважды в 1888 и 1891 гг. (Традиционное казахское общество…, 2014, с. 307).
МВД делало запрос военным губернаторам тех областей, из которых поступали прошения. Последние готовили заключение, в котором, как правило, подчеркивали необоснованность данных ходатайств (Традиционное казахское общество…, 2014, с. 309). После получения разъяснений ДДДИИ МВД делал заключение и направлял его в канцелярию военных губернаторов областей с предписанием направить в адрес просителей. Некоторые из переданных в МВД ходатайств даже не рассматривались.
В годы Первой русской революции прошения и петиции об открытии духовного правления от мусульманского населения Степного края приняли систематический характер. Данная проблема стала рассматриваться в казахском обществе как общеэтническая задача. Поэтому представители казахских мусульманских общин демонстрировали в этом вопросе консолидацию и сплоченность, готовили коллективные обращения, ходатайства, всепокорнейшие просьбы к органам власти от нескольких волостей, и даже волостей нескольких уездов и областей. Прошения направлялись лично императору, в ДДДИИ МВД, Совет министров и Правительственный сенат. Примером могут служить поданные одновременно 10 петиций от казахов-мусульман 26 волостей Акмолинского и Петропавловского уездов Акмолинской области, волостей Семипалатинской области, г. Семипалатинска в 1905 г. на имя министра внутренних дел с ходатайством перед правительством об изменении порядка управления духовными делами (Этнополитические и этносоциальные процессы…, 2016, с. 26–27).
Такое консолидированное обращение казахов-мусульман в МВД было связано с предстоящей работой Особого совещания при Кабинете министров. Оно созывалось для разработки новых нормативно-правовых актов, направленных на регламентацию функционирова- ния религиозных общин неправославного исповедания с учетом утвержденного в апреле 1905 г. Указа об укреплении начал веротерпимости. Помимо прочих вопросов, на Совещании планировалось рассмотреть возможности и целесообразность учреждения особых духовных правлений для казахов Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей, а также для мусульманских общин Северного Кавказа, Туркестанского края [Лысенко и др., 2014].
Игнорировать, как это было в 80–90-е гг. XIX в., массовые прошения казахов-мусульман об учреждении особого духовного управления государственные органы власти не могли. Данный вопрос действительно рассматривался в ходе работы Особых межведомственных совещаний по делам веры в 1905–1906, 1910 и 1914 гг. [Арапов, 2001; Алпыспаева и др., 2021]. Положительного решения так и не было принято. Однако Особые совещания признавали нормы Степного положения 1892 г. «стеснительными для духовной жизни казахов», что, безусловно, следует считать существенным результатом коммуникации казахских мусульманских общин Степного края с органами власти.
Ситуация, возникшая вокруг вопроса об особом управлении мусульман Степного края, не могла оставить в стороне региональные органы власти. Это привело к возникновению совершенно уникальной для региона формы коммуникации администрации с казахскими мусульманскими общинами – Частному собранию, состоявшемуся при степном генерал-губернаторе И. П. Надарове 20 мая 1907 г. (Труды Частного Совещания…, 1908).
Следует отметить, что достигнутые на Совещании решения между региональной администрацией и казахским населением не имели юридической силы. Однако сам факт готовности региональной администрации обсуждать проблемы казахского общества в присутствии его представителей свидетельствовал о готовности власти к диалогу. Кроме того, результаты дискуссии планировалось донести до вышестоящих инстанций и использовать при разработке законопроектов, затрагивающих вопросы мусульман Степного края. Региональные органы власти представляли чиновники администрации генерал-губернатора, финансово-налоговых, судебных структур, Переселенческого управления и Комитета государственного земледелия и государственных имуществ, Министерства народного просвещения – всего 20 человек. От казахского населения в работе Частного совещания принимали участие 12 уполномоченных, по 2 человека от каждого уезда Акмолинской и Семипалатинской областей (Труды Частного Совещания…, 1908, с. 2–3).
Вопросы духовно-религиозного быта казахского народа рассматривались в третьей Комиссии Частного совещания. Чиновники региональной администрации поддержали предложение об открытии муфтиата для казахов Степного края. В ходе дискуссии были выработаны общие подходы в вопросах открытия новых мечетей, формирования штата духовных мусульманских лиц, знания ими русского языка и т. д. (Труды Частного Совещания…, 1908, с. 34–45).
Предметом обсуждения в ходе работы Совещания также стали утвержденные в марте 1906 г. Министерством народного просвещения «Правила о начальных училищах для инородцев, живущих в Восточной и Юго-Восточной России». Правила предусматривали введение в инородческих школах всех типов, в том числе мусульманских, русского языка в качестве обязательного предмета. К учителям предъявлялось требование знания русского языка и наличия диплома об окончании одноклассного училища Министерства народного просвещения. На заседаниях Частного совещания уполномоченные от казахов требовали отмены курса русского языка в мусульманской школе и обучения только на родном языке в арабской транскрипции. И, несмотря на то, что в данном вопросе региональная администрация отказалась поддержать позицию казахов, сам факт обсуждения проблемы повлиял на дальнейшую судьбу Правил 1906 г. Как отмечают исследователи, «на фоне событий Первой русской революции всероссийское мусульманское движение, направленное против Правил 1906 г., вынудило правительство приостановить их действие в пределах всей Российской империи» [Исхаков, 2004]. Новая редакция «Правил о начальных училищах для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной России» 1907 г. предусматривала вывод мусульманской школы из подведомственного контроля Министерства народного просвещения.
Таким образом, со второй половины XIX в. вопросы духовного управления казахским мусульманским населением Степного края стали находиться в ведении МВД. Данное обстоятельство предопределило тот факт, что региональная администрация и ряд центральных министерств напрямую были связаны с решением проблем их духовной жизни. В компетенции властных структур находились вопросы организации новых приходов и строительства культовых помещений, открытия конфессиональных школ и религиозно-благотворительных обществ, паломничества верующих к святым местам. Основной формой взаимодействия властных органов и казахских мусульманских общин стали прошения или ходатайства, с последующим их поэтапным рассмотрением и принятием решения.
В начале ХХ в. на волне революционных событий 1905–1907 гг. казахские мусульманские общины стали демонстрировать консолидацию в решении проблем духовной жизни. Появилась новая форма коммуникации с органами государственной власти – петиции. Это были массовые обращения, в которых содержался перечень требований от мусульманских общин нескольких волостей, уездов и областей Степного края. В петициях по-прежнему затрагивались вопросы строительства новых мечетей и мектебов, назначения духовных лиц. Однако центральное место в них занимал вопрос об открытии особого духовного правления для казахов-мусульман. Именно его решению были посвящены Особые и Частные совещания, ставшие новой формой взаимодействия имперской управленческой элиты с мусульманским населением Степного края. Совещания были призваны снизить этническую напряженность в регионе и продемонстрировать казахскому обществу готовность властей решать его духовные проблемы, при этом активно взаимодействуя с ним.
В целом отметим, что казахское мусульманское население было достаточно активно во взаимодействии с государственными органами власти. Оно пользовалось всеми возможными механизмами, обращаясь со своими проблемами как в региональные, так и в центральные органы власти. Делопроизводство управленческих структур позволяет сделать вывод о своевременной рефлексии администраций на поступавшие обращения, готовности их решать в установленные законом сроки и на основе нормативных актов, регламентировавших духовную жизнь мусульман Российской империи. В итоге можно говорить о конструктивном диалоге властей с мусульманскими общинами Степного края.
Список литературы Практики взаимодействия мусульманских общин степного края с органами государственной власти (вторая половина XIX - начало XX века)
- Алпыспаева Г. А., Жуман Г., Саяхимова Ш. Н., Джумалиева Л. Т. Несостоявшиеся законопроекты по «мусульманскому вопросу» в степных областях и Туркестанском крае (конец XIX – начало XX в.) // Былые годы. 2021. № 16 (2). С. 799–811.
- Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). М.: Академкнига, 2001. 367 с.
- Гайдученко Т. Н. Эволюция видов обращений граждан в истории России // Документ. Архив. История. Современность: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2014. С. 46–49.
- Гражданская идентичность и сферы гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX – начало ХХ века М.: РОССПЭН, 2007. 302 c.
- Исхаков С. Российские мусульмане и революция. 1917–1918 гг. М.: Соц.-полит. мысль, 2004. 599 с.
- Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М.: Прогресс, 1996. 379 с.
- Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М.: Вост. лит., 1995. 311 с.
- Лысенко Ю. А. Позиция чиновников Оренбургского ведомства по вопросу правового регулирования духовной жизни казахов Уральской и Тургайской областей (40–80-е гг. XIX в. ) // Народы и религии Евразии. 2019. № 20 (3). С. 128–138.
- Лысенко Ю. А., Анисимова И. В., Тарасова Е. В., Стурова М. В. Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: концептуальные основные механизмы реализации (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Барнаул: Азбука, 2014. 272 c.
- Лыскова Е. И. Становление и развитие института обращений граждан // Право и политика. 2007. № 3. С. 121–125.
- Миронов Б. Н. Развитие гражданского общества в России в XIX – начале XX века // Общественные науки и современность. 2009. № 1. С. 110–126.
- Плахотник Т. Ю. Частное совещание 1907 г. в образовательной деятельности администрации Степного края // Национальная ассоциация ученых. 2020. № 61. С. 17–19.
- Ремнев А. В. Региональный нарратив в новой имперской истории России // Вестник Ом. ун-та. 2004. № 4. С. 6–13. Ремнев А. В. Сибирь в имперской географии власти XIX – начала XX века. Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. 577 с.
- Савичева А. Р. Исторический процесс становления института обращений граждан в России // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сб. ст. XXXI Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2020. С. 200–202.
- Хасаншин Г. Р. Особые межведомственные совещания 1905-1914 гг. как центры обсуждения «татаро-мусульманского вопроса» в Волго-Уральском регионе: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2020. 25 с.