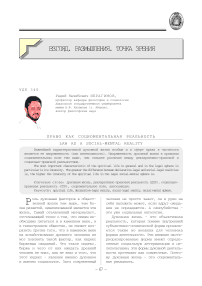Право как социоментальная реальность
Автор: Ибрагимов Радий Назибович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (6), 2010 года.
Бесплатный доступ
Важнейшей характеристикой духовной жизни вообще и в сфере права в частности является ее напряженность (или интенсивность). Напряженность духовной жизни в правовом социоментальном попе тем выше, чем сильнее различие между декларативно-правовой и социально-правовой реальностями.
Духовная жизнь, декларативно-правовая реальность (дпр), социально-правовая реальность (спр), социоментальное поле, автосанкция
Короткий адрес: https://sciup.org/140195993
IDR: 140195993 | УДК: 340
Текст научной статьи Право как социоментальная реальность
Роль духовных факторов в общественной жизни тем выше, чем более развитой, цивилизованной является эта жизнь. Самый отъявленный материалист, отстаивающий тезис о том, что людям необходимо питаться и в каменном веке, и в технотронном обществе, не сможет возразить против того, что в каменном веке на хозяйствование древнего человека не мог повлиять такой фактор, как индекс биржевых ожиданий. Что такое индекс, биржа и чего от них ожидать древний человек не знал, как не знал и того, что этот индекс — явление именно духовное и именно социальное. Зато современный человек не просто знает, он и руки на себя наложить может, если вдруг ожидания не оправдаются. А самоубийства — это уже социальная онтология.
Духовная жизнь — это объективная реальность, которая помимо внутренней субъективно-психической формы проявляется также во внешних для человека формах деятельности. Эти внешние эксте-риоризированные формы имеют определенные социальную детерминацию и целеполагание; эти формы духовной деятельности протекают как совместные. Поэтому духовная жизнь — это социоменталь-ная реальность.
Введение новой сущности «социомен-тальный» обусловлено необходимостью предикативного словоупотребления, создающего трудность аутентичности и корректности . Если существительное «духовная жизнь общества» в смысле научной корректности звучит довольно рискованно, то прилагательное «духовножизненный» вообще приближается к поэтической экзальтации. Поэтому, по стопам П.Сорокина, был избран наиболее близкий латинский перевод русского «духовный» - «ментальный» - с приставкой «социо-», уточняющей, что речь идет именно о социальном явлении и обозначающем его понятии.
Правовая сфера, развитие которой является одним из важнейших критериев цивилизационного уровня любого конкретного общества, - вместилище и творческая мастерская правовых смыслов, придающих этой сфере вместе с ее живыми людьми, библиотеками, судами, тюрьмами и саунами предикат онтологичности. И только поэтому может изучаться социологией как нечто реальное.
Но как предмет исследования правовая реальность сложна тем, что в ней, в отличие от большинства других реальностей, действуют одновременно две субреальности - декларативно-правовая и социально-правовая. В любой другой сфере признание чего-либо декларативной реальностью социологически означает только одно - немедленную элиминацию этого «чего-либо» как иллюзии, фикции. Но специфика права как раз в том и состоит, что придает производимым и функционирующим в ее рамках смыслам императивный характер.
Декларативно-правовая реальность (ДПР) - это императивно-семантическая система, определяющая права, обязанности и ответственность акторов, а также порядок легальности и легитимности органов локальной макросоциальной общности как должное. Понятию «декларативно-правовая» соответствуют также понятие «административная», «административно-вмененная».
Декларативно-правовая реальность имеет своим основанием конституцию (или иной заменяющий ее текст), а также законы, непосредственно дедуцирующиеся из нее. Однако совокупностью правовых текстов эта реальность не исчерпывается. Право - живой «организм» даже в этом слое своего существования. Сюда включаются судебные решения, действия государственных органов, поступки людей, вытекающие из буквы и смысла законов. Верьте, такие решения, действия и поступки существуют!
Людей как полноценных и автономных агентов духовной жизни в декларативноправовой реальности нет. По крайней мере, когда на живого человека, действующего от лица права, распространяется фраза «Ну, это же живой человек!», некриминальный смысл в ней возникает только в случае инфаркта и законного права на его санаторно-курортное излечение; во всех остальных случаях «живой человек» - это тот, у кого есть «слабости» и кто склонен им потакать, противореча при этом букве и духу закона. Там, где есть легальная «территория закона», действуют социальные роли, макеты индивидов, там есть носители знаний, умений, навыков и компетенций, объекты социологии знания, но не социологии духовной жизни.
Социально-правовая реальность (СПР) - это императивно-семантическая система, определяющая права, обязанности и ответственность членов, а также порядок легальности и легитимности органов локальной макросоциальной общности как сущее. СПР составляют установки и мотивы действий людей и сообществ, имеющие какой-либо правовой смысл.
«Какой-либо» означает в количественном отношении «хотя бы минимальный». Например, дерганье мальчиками девочек за косички в старшей группе детского сада декларативно не имеет правового смысла. В действительности, социологически, мы понимаем, что имеем дело с будущими взрослыми, которые уже сейчас формируют в себе модели социального поведения. То есть фактически, с социальноправовой точки зрения, эти мальчики -будущие семейные тираны, только в некой минимальной степени, а девочки, которые это терпят, - в той же степени жертвы.
В качественном отношении «какой-либо» означает «положительный» или «отрицательный». Положительным смыслом, например, наделяются точные и правдивые свидетельские показания. Если каннибализм не описывается конституцией, это не значит, что он вообще не имеет правового смысла. Имеет, но отрицательный. А вот почесывание затылка не имеет ни положительной, ни отрицательной правовой коннотации.
Социально-правовая реальность «начинается» не с текста, а с реальных действий реальных людей. Это та реальность, которая изучается не конституционным правом, а криминалистикой и оперативно-розыскной деятельностью, не догматической философией права (гегелевского или марксистско-ленинского типа), а социологией права или, как в данном случае, социологией духовной жизни применительно к исследуемой сфере.
Помимо собственно действий социально-правовую реальность составляют, конечно , их мотивы, то есть конкретные индивидуально-ментальные причины и поводы . В этом смысле сами социальные действия - это лишь деятельные завершения мотивационных процессов, имеющих место в духовной жизни личности.
Здесь необходима ремарка об откры-тости/закрытости правовой сферы общественной жизни. Именно на уровне мотивов в границе данной сферы имеется одна из самых больших брешей. Дело в том, что в большинстве случаев правовая мотивация неотличима от моральной, переплетается и сливается с ней. Это наиболее прослеживается в повседневной жизни юридического профана: делая замечание о недопустимости бросания окурков мимо урны, он не помнит и не старается вспомнить номера статьи административного кодекса, описывающего ответственность за предумышленное засорение мест общественного пользования; это замечание - моральная реакция, следствие убежденности в необходимости соблюдения чистоты и даже просто эмоционального не приятия свинства. Но одновременно это - интуитивно-правовое действие: субъект делает замечание вследствие данной себе автосанкции , «разрешения-самому-себе», которая в данном случае основана на смутном подозрении, что действующее позитивное право, закон, не может позволять людям свинячить в общественных местах. И, наконец, это есть полноценное правовое действие, но теперь уже в силу того, что соответствует имеющемуся законодательству независимо от смутных подозрений индивида.
Но даже если взять для примера действия юриста-профессионала, мотив вроде «эти действия не предусмотрены ст. 167 УК РФ» не обязательно является только и исключительно правовым и при этом внеморальным. Моральная реакция - это органичное проявление мировоззрения, тогда как профессионально-юридическая , сколь бы моментальным ни было извлечение из памяти цитаты из УК и ее применение к ситуации, - это искусственное интеллектуальное событие. Хотя бы поэтому оно менее эффективно; и, далее, хотя бы поэтому неконкурентноспособно с профессиональной реакцией, получившей моральную репрезентацию. Следователь, движимый чувством исполняемой справедливости, способен приложить усилий во много крат больше, чем недвижимый.
Иными словами, на уровне «действия в жизненном мире» более мощным и органичным является то душевное движение, которое оснащено положительной или отрицательной моральной интенцией. Милиционер, прокурор, судья, которые лишь механически воспроизводят букву закона, не поддерживая его морально, либо спиваются, либо теряют нравственные ориентиры настолько, что перестают понимать, в каком именно мире они живут, - и рано или поздно срываются.
Поскольку духовная жизнь - не только информационное, но и психологическое явление, важнейшей характеристикой духовной жизни вообще и в сфере права в частности является ее напряженность (или интенсивность). Закономерность, опреде- ляющую интенсивность духовной жизни в исследуемой сфере, можно выразить следующей корреляцией. Напряженность духовной жизни в правовом социоменталь-ном поле тем выше, чем сильнее различие между декларативно-правовой и социально-правовой реальностями.
Две реальности устремлены навстречу друг другу. Но вектор, исходящий от декларативно-правовой реальности, является интеллектуально-механическим. Закон - это продукт духовной жизни, а не сама жизнь. Точно так же продуктом жизни помпеян являются их законсервированные в пепле Везувия трупы. Закон как предписывающий текст - это «бывшая» духовность. Неудивительно, что мессидж закона носит механический, императивный или ограничительный характер. По сути ДПР -это Суперэго общества.
Совсем иным является социоменталь-ный вектор, идущий от социально-правовой реальности. Наполнением этой интенции являются, например, вопрошание («Соответствует ли то, что я собираюсь предпринять, требованию закона?») или глумление («Ну-ну, покричи, подергайся!»). Общество в целом и каждый его индивид в частности, во-первых, находятся в состоянии открытости правовому бытию и, во-вторых, насыщают свои отношение и деятельность переживаниями, эмоциями, настроениями. Открытость правовому бытию означает принципиальную незавершенность смыслового наполнения феномена права в повседневном массовом сознании, изобилие , даже преобладание вопросов в социально-правовом дискурсе. Возвращаясь к терминологии З.Фрейда, позицию СПР можно фигурально охарактеризовать как социально-правовое Эго, непосредственно подпитывающееся от доправово-го и палеоправового Ид.
Ту же корреляцию интенсивности со-циоментальной жизни со степенью отчуждения СПР от ДПР можно отследить и по принципу «от противного». Идеальным общественным правовым состоянием является такое положение вещей, когда между декларативно-правовой и социально-пра вовой реальностями вообще нет никакого противоречия. Здесь все законы имеют единодушную нравственно-мотивационную санкцию, и наоборот, мотивация каждого правового поступка органично соответствует системе правовых деклараций. Это положение вещей можно называть как угодно - утопией, коммунизмом, неважно. Называя его идеальным, мы имели в виду как его схематичность, так и его недостижимость.
Важно то, что в таких условиях соотнесение своего поступка с законом рано или поздно перестает быть актуальным, переходит в привычку. А значит, переход от правовой автосанкции к поступку требует все меньших энергетических затрат. В конце концов оказывается, что не надо мучиться, платить за проезд или не платить, если кондуктор не обратил на тебя внимание, - конечно, платить, причем автоматически.
Нетрудно догадаться, что при этом наполненность обоих социоментальных векторов падает практически до нуля. Позитивное право остается, но его императивность как социальный факт теряется, становится чем-то вроде выстрела из пушки по воробьям. Это как если бы в нашей действительности государство издало закон, предписывающий людям дышать. Люди (читай - СПР) и так дышат, причем не задумываясь. То же самое в идеальном правовом общественном состоянии -они и так поступают законосообразно, а значит, «конец моим мучениям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода..».
Таким образом, и прямо, и косвенно выясняется, что интенсивность духовной жизни в правовой сфере и степень отличия системы правовых деклараций от реального положения вещей - прямо пропорциональные величины. Проявляется она как на социальном уровне - в механизмах социального отчуждения, так и на индивидуальном - в виде когнитивного диссонанса. Смыслосодержательное наполнение дельты ДПР и СПР ориентировочно приведено в таблице.
Таблица
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ЦЕННОСТЕЙ СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
|
Право |
Социология |
|
|
1 |
Человек разумен, пока не доказано обратное |
Человек неразумен, пока не доказано обратное |
|
2 |
Человек свободен в поступках |
Действия человека социально обусловлены |
|
3 |
Человек несет ответственность за свободные поступки |
Уклонение от ответственности – важнейшее из направлений человеческой деятельности |
|
4 |
Право есть высшая справедливость, не вытекающая прямо из общественного мнения |
Право есть социологическая равнодействующая общественного мнения о справедливости |
|
5 |
Незнание закона не освобождает от ответственности |
Незнание законов общественного развития и функционирования есть первое условие существования самих законов |
|
6 |
Люди равны перед законом (демократическое право) |
Человеческое сообщество фактически не в состоянии удержаться в состоянии равенства |
|
7 |
Дискриминация и конфликты – ненормальные явления и должны подлежать запрещению и урегулированию |
Дискриминация и конфликты – социологически нормальные явления и составляют ядро системы общественных отношений (конфликтологическая парадигма) |