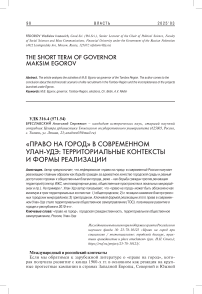«Право на город» в современном Улан-Удэ: территориальные контексты и формы реализации
Автор: Бреславский А.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы, политические технологии и практики
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор предполагает, что лефевровское «право на город» в современной России получает реализацию главным образом как борьба граждан за адекватное качество городской среды и равный доступ всех горожан к общественным благам города, реже - как борьба граждан против реновации территорий (сектор ИЖС, многоквартирные дома, общественные пространства в локальных микрорайонах и пр.). На примере г. Улан-Удэ автор показывает, что «право на город» может быть обозначено как минимум в трех территориальных контекстах: 1) общегородском; 2) с позиции наименее благоустроенных городских микрорайонов; 3) пригородном. Ключевой формой реализации этого права в современном Улан-Удэ стало территориальное общественное самоуправление (ТОС), получившее развитие в городе и республике в 2010-е гг.
«право на город», городская гражданственность, территориальное общественное самоуправление, Россия, улан-удэ
Короткий адрес: https://sciup.org/170210393
IDR: 170210393 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-98-103
Текст научной статьи «Право на город» в современном Улан-Удэ: территориальные контексты и формы реализации
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-78-10123 «Право на город при социализме / постсоциализме: городской дискурс, практики гражданства и place attachment» (рук. И.Н. Стась);
Международный и российский контексты
Если мы обратимся к зарубежной литературе о «праве на город», которая получила развитие с конца 1960-х гг. в основном как реакция на крупные протестные кампании в странах Западной Европы, Северной и Южной
Америки, станет ясно, что содержание этого права обыкновенно включает в себя публичную борьбу горожан (часто на центральных улицах и площадях городов), во-первых, за общегражданские права и более широкий доступ к городской политике, против ущемления прав отдельных социальных групп по критерию дохода, места жительства, расы, национальности, религии, миграционного статуса и пр., а во-вторых, за возможность присвоения и переобустройства отдельных городских территорий, исходя из логики самих городских сообществ, а не, например, крупного частного капитала, частных корпораций или государства в лице его институтов. Один из примеров этого – борьба против джентрификации, реновации отдельных городских территорий. В целом, право на город в международных академических дискуссиях к настоящему времени обозначается как важный элемент более широкого движения за справедливые, демократичные, гуманные и устойчивые города [Blokland et al. 2015; Harvey 2006; Lefebvre 1968; Marcuse 2009; Mayer 2009; Merrifield 2011].
Оставляя в стороне вопрос о специфической реализации «права на город» в современных российских реалиях первой половины 2020-х гг. [Бреславский 2024: 76-78], отметим, что, на наш взгляд, судя по немногочисленной отечественной литературе по данной проблематике, это право получает развитие в России последнего пятилетия (2020–2024 гг.) главным образом как запрос горожан и их сообществ на качественную городскую среду, на равный доступ всех горожан к общественным благам города, реже – как борьба горожан против проектов реновации значимых для них территорий (жилые, общественные пространства и пр.).
Территориальные контексты «права на город» в Улан-Удэ
Если сегодня мы понимаем «право на город» именно в таком контексте, то в специфических реалиях г. Улан-Удэ (столица Республики Бурятия, население на начало 2025 г. – более 435 тыс. чел.) оно раскрывается как минимум в трех территориальных контекстах.
Общегородской контекст. Жители Улан-Удэ – одного из трех крупнейших городов Дальневосточного федерального округа РФ (наряду с Хабаровском и Владивостоком) имеют право на «полноценный» город, обладающий развитой инженерно-бытовой, социальной инфраструктурой, лишенный острых экологических, транспортных проблем, концентрирующий в себе многообразные формы современной человеческой деятельности и пр. По существу, это право всех горожан на высокое качество жизни, городской среды в масштабах всего города.
С позиции жителей отдаленных и неблагоустроенных микрорайонов. Сохраняющиеся вторичные позиции в распределении средств на благоустройство так называемых отдаленных микрорайонов города, частного сектора актуализируют право местных жителей на качественную городскую среду, равный доступ к инфраструктуре и ресурсам города вместе с центральными и более благоустроенными районами. Здесь необходимо отметить, что по всему периметру Улан-Удэ окружен обширным частным сектором, исторически менее благоустроенным, нежели большая часть центральной территории города.
Пригородный контекст: жители ближних пригородов Улан-Удэ, заметно разросшихся в нулевых –2010-х гг. вследствие центростремительной сельско-городской миграции, сохраняющие с городом тесные социально-бытовые, трудовые и иные связи, имеют право на качественную инфраструктурную среду и блага, сопоставимые с теми, что формируются в Улан-Удэ. Они не должны оставаться в «исключенной» позиции, исходя из ограничений того же бюджетного, муниципального законодательства, низкой обеспеченности местных администраций внутренними ресурсами для развития и т.п. Этот подход согласуется, в частности, с Международной хартией права на город1.
В 2023–2024 гг. мы опирались на эти тезисы при организации социологического исследования «права на город» на материалах Улан-Удэ и его бурно разросшихся в нулевых – 2010-х гг. пригородов. Первая часть исследования, включающая обследование пригородных сообществ, многочисленных дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) на территории пристоличных муниципальных районов, показала, что борьба за это право в нулевых – начале 2020-х гг. включала в себя социальную и политическую мобилизацию населения, осознание и принятие жителями личной ответственности за развитие своих территорий [Бреславский 2024], в т.ч. числе в рамках территориального общественного самоуправления (ТОС), получившего широкое развитие в Бурятии в 2010-е гг. [Бреславский, Скворцова 2021]. Эта борьба в пригородах, однако, не была массовой и устойчивой, равно как и сами локальные сообщества (пригородные села и поселки, ДНТ, ТОСы) оставались в основном обособленными по отношению друг к другу, объединяясь лишь в периоды решения общих проблем. Кейс улан-удэнских пригородов свидетельствовал о ситуативной сущности городского гражданства, сохраняющейся фрагментарности пригородных сообществ в их потенциально общем движении за более высокое качество пригородной среды, равный доступ к общественным ресурсам и благам города. Проведенное обследование указало и на множество моральных логик в легитимации «права на город», которые могли входить в противоречие между собой, поскольку идеи, содержащиеся в этом праве, часто элементарно не рефлексировались рядовыми жителями [Бреславский 2024: 76-78].
Вторая часть исследования была связана с изучением «права на город», коллективных практик гражданственности уже исключительно на материалах Улан-Удэ. Серия глубинных фокусированных интервью с лидерами и участниками общественных объединений города (ТОС, ДНТ, НКО, юридически не оформленные объединения), с представителями муниципальной власти, отвечающими за поддержу и развитие гражданских инициатив в городе, предшествующий опыт анализа деятельности ТОС города и республики, отдельных групп городских активистов позволили нам прийти к ряду выводов, часть которых мы представим в этой статье.
«Право на город» как борьба за инфраструктуру
Если мы рассматриваем «право на город» как коллективный запрос горожан и их сообществ на качественную городскую среду, на равный доступ всех жителей города к его общественным благам, то в современном Улан-Удэ основными и наиболее массовыми акторами-горожанами, актуализирующими это право, следует считать сообщества общественно и политически активных жителей, объединенных в территориальные общественные самоуправления (ТОСы), а также активы дачных некоммерческих товариществ (ДНТ). ТОСы в Улан-Удэ, как и во всей республике, получили развитие в 2010-е гг. благодаря системной финансовой, организационно-методической поддержке со стороны региональной власти [Бреславский, Скворцова 2021: 51-70]; на начало 2025 г. в городе их число составило 1041. Одновременно, вплоть до настоящего времени это массовое движение активных граждан на местах, готовых принять ответственность за развитие своих территорий, продолжает зависеть от непосредственной (прямой) финансовой поддержки со стороны регионального правительства. Специфика этой формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении заключается также в том, что ТОСы стремятся к решению не узкого, а широкого комплекса вопросов инфраструктурного развития своих территорий в условиях ограниченности собственных ресурсов. Речь идет, например, о проектах по водоснабжению, уличному освещению микрорайонов, строительству на их территории детских и игровых площадок, уборке мусора, озеленении территорий и пр. [Бреславский, Скворцова 2021: 51-70].
В реализации права на город в общегородском контексте, помимо Ассоциации ТОС Улан-Удэ, выделяются, пожалуй, лишь отдельные активы и лидеры ДНТ, некоммерческих организаций (НКО) и инициативные группы граждан, деятельность которых прямо или косвенно связана с решением уже более конкретных задач развития городской среды. Среди немногочисленных примеров этого можно назвать, например, Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» (развитие среды для маломобильных граждан), команду проекта «Старый город» (сохранение и реконструкция в городе дореволюционной архитектуры), центр «Хэб–Хаб» (развитие креативных индустрий, обновление городской идентичности), региональную общественную организацию «Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия “Байкальский экстрим”» (формирование в городе и его пригородах спортивно-туристической инфраструктуры) и некоторые другие.
Деятельность этих сообществ, как и ТОСов, сильно зависела и зависит от внешнего финансирования, источниками которого выступали, например, гранты Президента РФ, средства республиканского и муниципального бюджетов, коммерческих предприятий. Как показывает практика весьма многочисленных ТОСов города и значительно меньшего числа НКО, именно регулярная, пусть и сравнительно незначительная, финансовая и организационная поддержка инициативных сообществ горожан способна поддерживать их деятельность на длительном промежутке времени. Однако без нее деятельность ТОСов и НКО обычно прекращается или сводится к активности ее нескольких членов.
Финансовая обеспеченность обозначенных инициативных групп граждан в Улан-Удэ оказалась напрямую связана, с одной стороны, с процессами их формализации и институционализации (так, ТОСы регистрируются в местных органах власти, лишь отдельные из них – как юридические лица, НКО – как юридические лица), а с другой – с готовностью выстраивать симбиотические отношения с региональными/муниципальными органами власти, отвечающими за распределение основных средств. Показателен в этой связи опыт развития многочисленных ДНТ города (103 ДНТ и СНТ в 2022 г.2), которые, учитывая ограничения российского бюджетного законодательства, все последние десятилетия решали свои инфраструктурные проблемы преимущественно самостоятельно, опираясь главным образом на внутренние средства (членские взносы). Иными словами, обретя жилье в городе, жители ДНТ фактически были лишены права на средства городского бюджета, направляемые, например, на благоустройство микрорайонов многоквартирных домов, индивидуального жилого сектора. Что характерно, даже активные лидеры ДНТ города, осознавая имеющиеся законодательные ограничения, не включаются в публичную борьбу за городские ресурсы, а ищут возможные обходные пути в поиске этих средств (например, создают ТОСы).
«Право на город» как публичный протест
Улан-Удэ 2010-х – начала 2020-х гг., по общероссийской тенденции, дает лишь единичные кейсы для анализа городского протеста. Причем часть из них имела весьма спорную, неоднозначную и спонтанную политическую повестку, как, например, широко освещенная местными СМИ серия общественных митингов в городе в сентябре 2019 г. после выборов мэра, поддержанная региональным активом КПРФ, или несанкционированный митинг в центре Улан-Удэ в январе 2021 г. в поддержку одного из оппозиционеров1. До этого в январе 2015 г. на площади Революции – одной из центральных площадей города – состоялся митинг преподавателей и студентов Бурятского государственного университета, в ходе которого они выразили несогласие с политикой вмешательства во внутренние дела университета. Редким примером общественно-политической мобилизации горожан против отдельных проектов (пере)обустройства городской территории стало сравнительно небольшое по числу участников движение против строительства в городе мультиколонии ФСИН [Белоусов, Давыдов, Кочухова 2024]. То были редкие случаи, когда отдельные группы горожан в 2010-х – начале 2020-х гг. выходили на центральные площади и улицы Улан-Удэ с протестной повесткой. Важно отметить, что эти акции не были сколько-нибудь сравнимыми с более крупными и длительными протестами в городах России, например в Екатеринбурге 2019 г. [Белоусов, Давыдов, Кочухова 2024] или Хабаровске 2020 г. [Минакир 2020], не говоря о Москве и Санкт-Петербурге.
Выводы
Таким образом, «право на город» в современном Улан-Удэ получило реализацию главным образом в системе территориального общественного самоуправления, тесно связанного с муниципальной властью партнерскими, а не противоборствующими/конкурентными отношениями. За некоторыми исключениями, обозначенными выше, в рассматриваемый период это право не приобрело в городе сколько-нибудь выраженной протестной составляющей, что вполне соответствовало общероссийской тенденции.