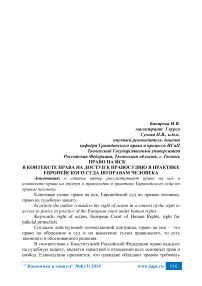Право на иск в контексте права на доступ к правосудию в практике Европейского суда по правам человека
Автор: Бакирова И.В., Сухова Н.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-1 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает право на иск в контексте права на доступ к правосудию в практике Европейского суда по правам человека.
Право на иск, европейский суд по правам человека, право на судебную защиту
Короткий адрес: https://sciup.org/140109029
IDR: 140109029
Текст научной статьи Право на иск в контексте права на доступ к правосудию в практике Европейского суда по правам человека
Согласно действующей отечественной доктрины, право на иск - это право на обращение в суд и на вынесение судом правильного, то есть законного и обоснованного решения.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации право каждого на судебную защиту, является гарантией в отношении всех основных прав и свобод. Единодушно признается, что граждане обладают правом требовать от публично-властной организации в каждом демократическом правовом государстве определенного поведения, благоприятного для свободы граждан, включая право на доступ к правосудию, хотя и непосредственно в Конвенции о защите прав человека и основных свобод не предусмотренного, но которое следует из нее. Это означает, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами, и оспаривать действия государственной администрации в лице любых его органов и должностных лиц [1, с.116].
Таким образом, если государство гарантирует каждому конституционное право – судебную защиту, оно и должно быть охранителем этого права, независимо от того, обратилось ли за защитой этого нарушенного права заинтересованное лицо или нет.
Иск также является процессуальным средством реализации конституционного права на судебную защиту. Право на судебную защиту или право на суд является многогранным понятием, одним из частных аспектов которого является «право доступа к правосудию» (право на иск).
В демократическом обществе право на надлежащее отправление правосудия занимает такое значимое место, что нельзя его приносить в жертву целесообразности. Право на справедливое судебное разбирательство, а следовательно и право каждого участника судебного разбирательства гарантировано принципом верховенства права, являющегося одним из элементов духовного наследия человечества[2, с.110].
Согласно ст.6 п.1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо -при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия[3, с.8].
Право на доступ к правосудию специально не упоминается в статье 6 Конвенции, но Европейский Суд признал это право неотъемлемым элементом статьи 6 Конвенций. Статья 6 не только содержит процессуальные гарантии в отношении судебной процедуры, но также дает право на саму судебную процедуру - право доступа к суду.
Статья 6 Конвенции возлагает на государство обязательство, объектом которого является результат действия. Если государства пользуются свободой в выборе средств, обеспечивающих соблюдение судебной системой требований статьи 6 Конвенции, то средства, предлагаемые внутренним правом должны в любом положении дела оказываться эффективными [4, с.8].
В целях определения понятия права на суд в контексте права на доступ к правосудию, обратимся к прецедентной практике Европейского суда по правам человека.
Гарантии реализации права на суд. Конвенция имеет целью защиту не теоретических и иллюзорных, а конкретных и действительных прав. Государственная правовая система, устройство судов – все это должно отвечать требованиям эффективности (эффективность – соотношение затрат к результату) [5, с.417].
Когда же возникает право на суд и право на доступ к правосудию?
Исходя из прецедентной практики Европейского суда по правам человека, право на суд, возникает тогда, когда гражданин как участник судебного разбирательства захотел, чтобы дело рассматривалось в суде[5, с.440].
Однако, право на суд не является абсолютным и подвержено ограничениям. Ограничения, которые может предусматривать национальная правовая система (так называемый «юрисдикционный иммунитет»), не должны ограничивать пользование таким правом до такой степени, чтобы нарушилась сущность самого права. Итак, основной принцип, всемирно признанный, основополагающий принцип права, запрещающий отказ в правосудии, звучит как «возможность передачи дела на рассмотрение суда должна быть обеспечена в каждом гражданско-правовом споре». Эта возможность должна быть закреплена в национальной правовой системе с соблюдением требования эффективности: т.е. соотношение затрат к результату должно быть в пользу граждан-участников судебного разбирательства. Эффективность может быть обеспечена разными способами: простой и доступной системой оказания юридической помощи (в том числе бесплатной), упрощенной процедурой, развитием и доступностью альтернативных способов урегулирования спора[5, с.452].
Согласно прецедентной практики Европейского суда по правам человека, п.1ст.6 Конвенции действует не только в отношении уже начатой процедуры, а также и на досудебный период, когда у гражданина существует теоретическая возможность возбудить дело в суде.
Право на доступ к правосудию – это возможность инициировать судебное разбирательство по гражданским делам (т.е. право на иск), данное право является частным аспектом права на суд [6, с.27].
Момент, когда право на доступ к правосудию может быть нарушено, возникает даже тогда, когда заявитель хотел, но не имел возможности (не смог по разным причинам) возбудить дело в суде.
Эффективность права доступа к правосудию требует, чтобы лицо пользовалось ясной и конкретной возможностью оспорить действие, представляющее собой вмешательство в его права.
Таким образом, право на доступ к правосудию – неотъемлемое право каждого при осуществлении своих гражданских прав и обязанностей. Государство должно обеспечить эффективность, доступность, ясность и конкретную возможность реализации такого права[5, с.486].
Более того, Конвенция требует от Государств - участников совершения позитивных действий в обеспечении эффективности права доступа к правосудию. Государство не может бездействовать и оставаться пассивным и должно постоянно совершенствовать национальную систему права с целью повышения эффективности реализации права на доступ к правосудию[5, с.512].
Как право на иск реализуется во взаимосвязи с правом доступа к правосудию в практике Европейского суда по правам человека рассмотрим на конкретных примерах.
Дело Голдер (Golder) против Соединенного Королевства (решение от 21 февраля 1975г.)[7, с.158]:
В деле Голдер (Golder) против Соединенного Королевства (решение от 21.02.1975г.) суд установил, что статья 6 Конвенции должна толковаться в свете двух правовых принципов:
-
1) принцип возможности предъявления гражданского иска в суд, как один из фундаментальных и признанных принципов права;
-
2) принцип международного права, который запрещает отказ в осуществлении правосудия;
«Принимая во внимание все сказанное, можно заключить, что право на доступ к суду представляет собой элемент, который является неотъемлемой частью права, установленного статьей 6 (1). Это не является расширительной интерпретацией, налагающей на государства-участников новые обязательства: право доступа к суду основано на самой терминологии первого предложения статьи 6 (1), вытекает из контекста статьи, отвечает целям Конвенции и общим принципам права...».
По этим основаниям Суд установил, что имело место нарушение статьи 6 (1): право на доступ должно не просто существовать, оно также должно быть эффективным.
В данном решении имеются иные мнения:
Отдельное мнение судьи Зекиа касательно толкования п.1ст.6 Конвенции гласит: «…Уже сам текст ст.6п.1 показывает, что гарантии, представляемые ею лицу при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, относятся исключительно к ведению судебного процесса, т.е. к публичному разбирательству дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом и публичному объявлению решения..». По мнению судьи, п.1 ст.6 Конвенции касается только уже возбужденного дела в суде, а не права доступа к правосудию. По мнению судьи Зекия, публичное слушание дела, оглашение приговора, разумный срок, независимый и беспристрастный суд – все это основополагающие аспекты осуществления правосудия, хотя их можно квалифицировать как процессуальные гарантии.
Отдельное мнение сэра Джеральда Фицмориса (п.25 решения): «…. Если придерживаться содержания и терминологии статьи (ст.6 Конвенции), она не устанавливает материального права доступа к правосудию наряду с процессуальными гарантиями справедливого судебного разбирательства, которые являются ее основным предметом.».
Дело Аксой (Aksoy) против Турции (решение от 18 декабря 1996г.)[8, с.162]:
Механизм защиты, установленный Конвенцией, является субсидиарным по отношению к национальным правовым системам гарантий прав человека.
Так, в решении Европейского суда по правам человека от 18 декабря 1996г. по делу Аксой (Aksoy) против Турции, суд напоминает, что правило об исчерпании национальных средств правовой защиты, о которых говорит статья 26 Конвенции, обязывает тех, кто пытается возбудить иск против государства в международном судебном или арбитражном органе, сначала использовать такие средства защиты, предоставляемые национальной правовой системой. Соответственно, государства свободны от ответственности перед международным органом за свои действия, пока они имеют возможность исправить положение в рамках своей собственной правовой системы. Правило основывается на предположении, которое отражено в статье 13 Конвенции - с которой оно тесно переплетается, - что в национальной судебной системе имеются доступные эффективные средства правовой защиты в отношении заявленного нарушения, независимо от того, включены ли правовые нормы Конвенции в национальное законодательство.
В том же решении указано, что в соответствии со статьей 26 Конвенции заявитель должен иметь нормальный доступ к имеющимся и достаточным средствам правовой защиты, чтобы получить возмещение за нарушения, которые, как он полагает, имели место. Такие средства правовой защиты должны быть достаточно определенными не только в теории, но и на практике, в противном случае они не обладают требуемой доступностью и эффективностью. Ничто не обязывает обращаться к средствам правовой защиты, которые не являются достаточными и эффективными. В добавление к этому в соответствии с "общепризнанными нормами международного права", на которые ссылается статья 26, могут возникнуть особые обстоятельства, которые освобождают заявителя от обязательств использовать внутренние средства правовой защиты, имеющиеся в его распоряжении. Это правило также неприменимо, если доказано существование административной практики, состоящей из повторяющихся действий, несовместимых с Конвенцией, в сочетании с официальной терпимостью государственных властей, делающей использование средств защиты тщетным и неэффективным (см. решение по делу Акдивар и другие, с. 1210, п. 6 и 67).
Априори презюмируется, что в национальной судебной системе имеются доступные эффективные средства правовой защиты прав человека и доступ к правосудию обеспечен. На практике, это не всегда так[6, с.115].
В том же решении (по делу Аксой против Турции), указано, что суд должен реально оценить не только то, как выглядят в теории средства правовой защиты в данной системе, но и общий правовой и политический контекст, в котором они действуют, а также личные обстоятельства заявителя (п.53 решения). Суд должен решить, сделал ли заявитель при данных обстоятельствах все, что можно было реально ожидать от него, чтобы исчерпать национальные средства правовой защиты (п.54 решения).
Немаловажно, и на это указывает суд (п.56 решения), насколько сильно поведение представителей государства влияет на формирование убеждения у граждан об эффективности средств правовой защиты внутри государства. И если суд удостоверится, что у заявителя имелись особые обстоятельства, он освобожден от обязанности исчерпать все внутренние средства правовой защиты (п.57 решения).
В рассмотренном решении по делу Аксой против Турции:
-
1. Суд посчитал, что право обратиться в суд с гражданским иском – один из аспектов «права на суд», гарантированного ст.6 п.1 Конвенции (п.92 решения).
-
2. Законодательно закрепленная возможность получения компенсации за вред, причиненный представителями государственной власти, представляет собой только часть мер, необходимых для полного возмещения вреда. Полное возмещение вреда в таком случае обеспечивается привлечением к ответственности самого должностного лица, причинившего вред гражданину своими действиями. Если государство считает, что оно выполнило свои обязательства, предоставив компенсацию причиненного вреда (пытки), это фактически означает, что государство позволяет себе платить за право причинять вред (пытать) (п.90, 93 решения).
-
3. Суд отметил, что национальные правовые средства защиты должны быть юридически и практически «эффективными» в том смысле, что возможность использовать их не может быть неоправданно затруднена действиями или же бездействиями органов власти государств-ответчика (п.95 решения).
-
4. По мнению суда, бездействие со стороны государственного должностного лица в рамках расследования уголовного правонарушения равносильно подрыву эффективности любых других средств правовой защиты, которые могли бы существовать.
Исходя из рассмотренной прецедентной практики Европейского суда по правам человека, по мнению автора, в обязанность государства по обеспечению доступа к правосудию входит как обеспечение юридически и практически доступных и эффективных средств правовой защиты, так и применение норм компенсаций за причинение вреда в совокупности с нормами привлечения к ответственности конкретных должностных лиц, причинивших вред гражданину или организации. Государство не может ограничиваться закреплением в национальной правовой системе одной лишь компенсации за причинение вреда, так как фактически это означает что государство позволяет себе платить за причиненный вред, не принимая конкретных мер по устранению нарушения прав гражданина или организации, а также по искоренению причин таких нарушений.