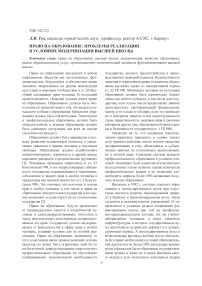Право на образование: проблемы реализации в условиях модернизации высшей школы
Автор: Тен Л.В.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Юриспруденция: теория и практика
Статья в выпуске: 1 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию природы права на образование как естественного, неотъемлемого фундаментального и абсолютного права личности. Проанализирована практика модернизации высшей школы с точки зрения обеспечения его реализации. Сделан вывод о необходимости реформирования системы управления высшей школы с учетом рыночных реалий, сложившихся в образовании, и обеспечения роли непосредственных субъектов образовательных отношений в решении проблемы его качества.
Право на образование, высшая школа, модернизация, качество образования, рынок образовательных услуг, организационно-экономический механизм функционирования высшей школы
Короткий адрес: https://sciup.org/142179004
IDR: 142179004
Текст научной статьи Право на образование: проблемы реализации в условиях модернизации высшей школы
Право на образование признается в любом современном обществе как неотъемлемое, фундаментальное, безусловное и абсолютное право человека, закрепленное на уровне конституций всех стран и мировым сообществом в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека. В последней провозглашается: «Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности, к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми и религиозными группами» [1]. Указанные принципы закреплены в ст. 43 Конституции РФ, и им корреспондирует обязанность государства, выражающаяся в «признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности» (ст. 2 Конституции РФ). Это означает, что источник и основа прав и свобод человека, в том числе и права на образование, находятся вне государства и последние возникают и существуют не по соизволению государства [2].
Право на образование, будучи производно от индивидуальных качеств и потребностей человека в самосовершенствовании, относится к числу неотъемлемых, естественных, неприкосновенных его прав. Государство должно воздерживаться от вмешательства в сферу прав и свобод человека, создавая условия для их полной реализации. Право на образование, независимо от того, участником каких правоотношений человек является, не может быть ограничено чьей бы то ни было волей, даже если решение лица получить профессиональное образование не обусловлено соображениями экономической необходимости государства, личного трудоустройства и производственных задач работодателя. Недопустимость лишения и ограничения права человека на образование вытекает также из императивной нормы ст. 22 ГК РФ. Мотивация человека на получение образования должна быть юридически безразлична для любого субъекта, в том числе для государства, если только она не предполагает занятие деятельностью, противоречащей федеральному закону, и то только в той мере, если это необходимо в интересах защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 1 ГК РФ).
Несмотря на то, что указанные конституционно-правовые принципы и нормы имеют силу прямого действия, они во многом оказались декларативными в силу объективных и субъективных причин, не позволявших реализовывать их в полной мере. Советская система высшего профессионального образования в условиях плановой экономики была нацелена исключительно на подготовку только нужного стране количества профессиональных кадров и не позволяла удовлетворять запросы более 50% желающих получить высшее образование.
Введение в 1992 г. системы платного образования и негосударственных вузов при отсутствии жесткого режима лицензирования привело к бурному и неконтролируемому росту числа студентов и псевдовузовских учреждений. И это произошло в условиях резкого сокращения финансирования школы при том же профессорско-преподавательском составе, тех же учебнолабораторных площадях и иных элементах инфраструктуры, в которых государственные вузы испытывали острейший дефицит и в доперестроечный период. А негосударственные вузы и всевозможные филиалы вообще могли обходиться без самых необходимых условий образовательной деятельности. Более 50% негосударственных вузов и филиалов были образованы государственными вузами и вовсе не в целях внесения своего вклада в дело подготовки популярных кадров юристов и экономистов, а исключительно из соображений получения доходов. Неотвратимым результатом такой политики явилось резкое падение качества подготовки студентов, начавшееся еще в советский период в силу консервации традиционных методов и форм обучения в условиях научно-технического прогресса, резкой мас-совизации числа обучающихся и невосприимчивости командной экономики к инновационным подходам. Либерально-волюнтаристские меры правительства 1990-х гг. привели к дискредитации самой идеи платного и частного образования и, соответственно, выхолащиванию содержания права на образование, предполагающего определенную альтернативу унифицированному государственному образованию и высокое качество. Ведь смысл и назначение платного и частного образования состоит в обеспечении более высокого уровня подготовки студентов и более полного и оперативного реагирования школы на потребности постоянно меняющейся конъюнктуры на рынке труда и образовательных услуг.
Таким образом, в отличие от других стран только в России платное образование могло работать не на улучшение, а на его ухудшение. Во всем мире частный вуз проявил себя как привлекательная форма частных инвестиций и необходимый субъект конкурентной среды, без чего невозможна реализация права на качественное образование.
В государственной политике сегодня явно прослеживается переход от политики либерального волюнтаризма к жесткому административному регулированию. Министерство образования и науки пытается устранить негативные последствия собственной деятельности не свойственными этой сугубо интеллектуальной сфере бюрократическими мерами, основной целью которых является сокращение числа вузов, студентов и научно-педагогических кадров. Проводимая ныне практика мониторинга эффективности вузов полностью подпадает под определение понятия бюрократии, данное в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова, как «канцелярщина, пренебрежение к существу дела – ради соблюдения формальностей» [3].
Очевидно, что такая политика возвращает российскую высшую школу к ее исходным рубежам, когда она не могла обеспечить удовлетворение всех запросов на получение соответствующего образования. Она идет вразрез с мировой тенденцией развития системы образования. По данным статистического управления Евросоюза, за 20 лет удвоилось число студентов вузов стран
ЕС. В развивающихся странах число поступивших в вузы возросло за послевоенный период в 100 с лишним раз [4]. Возрастание социального спроса на высшее образование приобрело характер социального взрыва, и все государства стремились удовлетворить этот резко растущий спрос.
Какими бы благими ни были мотивы, невозможно признать оправданными ограничения прав человека, не соответствующие Конституции России и препятствующие удовлетворению естественных потребностей человека в самосовершенствовании, познании мира и своего места в нем. И таковые стали возможны в условиях, когда основные и решающие вопросы функционирования системы высшего образования решаются на уровне не федерального законодательства, а подзаконных актов и административно-правовых отношений.
Сегодня Министерство образования и науки осуществляет лицензирование, аттестацию, аккредитацию и мониторинг эффективности вузовской деятельности посредством манипуляции нормативами, им же устанавливаемыми. При всей спорности такого исключительного положения, когда в условиях рынка и правового государства все субъекты гражданского права, каковыми являются высшие учебные заведения и студенты, должны быть надежно защищены, в том числе от произвольного вмешательства властей, очевидно одно: ни один орган управления не вправе устанавливать ограничения на реализацию конституционного права на образование, что является прерогативой федерального законодательства (ст. 1 ГК РФ).
И к таким правовым установлениям относится, в частности, следующее:
-
а) правила приема в высшие учебные заведения не допускают к участию в конкурсе выпускников средних учебных заведений, не набравших устанавливаемого ежегодно Министерством минимального числа баллов по результатам ЕГЭ;
-
б) нарушается равное для всех граждан право на бесплатное образование посредством сокращения КЦП на бюджетные места по определяемым Министерством направлениям подготовки и специальностям независимо от числа абитуриентов по ним, а также по негосударственным вузам;
-
в) ограничиваются возможности граждан на выбор высшего учебного заведения посредством сохранения дискриминационного режима частных вузов и создания всевозможных преференций и односторонних преимуществ для государственных вузов, что является нарушением норм
ст. 8 Конституции РФ о равноправии форм собственности и правил ВТО, не допускающих дискриминации и преференции по признаку учредительства;
-
г) представляются неправомерными 5 из 6 решающих критериальных показателей мониторинга эффективности, поскольку они ориентируют вузы на достижение коммерческих результатов, в то время как все российские вузы работают в статусе некоммерческих организаций, преследующих не коммерческие, а сугубо гуманитарные результаты. Об этом со всей очевидностью свидетельствует признание неэффективными вузов, прошедших неоднократно аккредитацию по всем либо по большинству реализуемых ими образовательных программ;
-
д) в области налогообложения вузы приравнены к коммерческому сектору, но без прав коммерческих организаций, что существенно сужает экономическую основу их самостоятельности и возможности ресурсного и содержательного обеспечения возрастающих требований рынка труда и собственно потребителей.
Проводимый ныне мониторинг не решает проблему качества, действительно острую и существующую не только в вузах, признанных неэффективными. Невозможно решить ее и посредством механического сокращения числа вузов и установления всевозможных барьеров на пути к высшему образованию. Существенными в этом отношении являются другие, весьма серьезные меры правительства по улучшению ресурсного обеспечения государственных вузов, материального положения профессорско-преподавательского состава и студентов. Повышение заработной платы научно-педагогических работников важно. Но само по себе это не приведет к обновлению образовательного процесса. Можно и нужно поднимать стипендиальное обеспечение студентов. Но само по себе это не приведет к повышению их учебной активности.
Чрезвычайно необходимы и значимы реализуемые в рамках национального проекта меры государства по грантовой поддержке и инновации в образовании. Но при отсутствии мотивации на конечные результаты, когда самоцелью становятся деньги, а не конечные результаты, сама по себе инновационная деятельность может не дать качества и даже привести к разрушению достигнутого.
При сохранении существующей системы никакой высокий уровень ее финансирования не даст той отдачи, которую следует ожидать в условиях неизмеримо выросших требований к образованию. Деньги будут уходить в песок. Да и не может вся страна жить по законам рыночной экономики и правового государства, а образование – по-прежнему, будем точны, по советским законам.
Да, мы можем гордиться прошлыми достижениями и традициями российского образования, заложенными в советский период, прежде всего его фундаментальностью и гуманистичностью его направленности, но консервировать даже то, что когда-то было лучшим, – значит заведомо гарантировать отставание.
Реальность, содержательность и устойчивость права на образование находятся в прямой зависимости от того, в какой мере система управления адекватна природе отношений, складывающихся в сфере образования.
Кардинальные преобразования в экономике и обществе не сопровождались адекватными изменениями в системе управления образованием, нацеленными на более полное удовлетворение образовательных запросов личности и общества, что требуется в условиях непрерывного роста в геометрической прогрессии объема научнотехнической информации и широкого доступа к образованию. Управление качеством в нынешних условиях не может быть прерогативой только госорганов. Задача государства состоит прежде всего в создании системы экономических отношений, при которых качество было бы достаточно востребовано в обществе, и основным контролером качества образовательного продукта стал бы его конечный потребитель, т.е. субъект права на образование. Государство должно быть больше регулятором, а не производителем услуг [5].
Существующая система управления образованием, как и прежняя советская, характеризуется высокой степенью централизации, единообразным устройством учебных заведений, их концентрацией в руках государства, отсутствием у вузов внутренних стимулов саморазвития. Наиболее серьезными изъянами существующей системы управления образования являются:
-
- монополизм и отсутствие реальной автономии высшей школы;
-
- технократический и административноманипулятивный подходы к развитию высшего образования;
-
- узкоэкономический прагматизм и чисто утилитарный подход;
-
- игнорирование рыночных реалий, в которых ныне функционирует профессиональное образование.
Командно-административная система, от которой отказались в процессе реформирования экономики, до сих пор сохранена в сфере образования.
Напротив, командные функции органов управления образованием в последние годы существенно возросли, вертикаль власти здесь также усиливается. А нововведения, казалось бы, рыночного характера – ГОСы, лицензирование, аттестация и аккредитация – сосредоточены в руках одного ведомства, осуществляющего одновременно функции собственника-монополиста, и превратились в инструмент мелочной регламентации жизнедеятельности вузов и бюрократических манипуляций на рынке образовательных услуг. Ни к каким положительным сдвигам в образовании они не привели, но возможности чиновничьего произвола увеличились. Меры же по модернизации в виде ЕГЭ, тестирования остаточных знаний, госзаказов и конкурсов, представляющих плохо скрытую форму прежней распределительной системы и иерархизации вузов, приведут в управлении образованием к еще большему усилению административных начал вместо экономических и дальнейшему подавлению их самостоятельности и цивилизованной конкуренции на рынке образовательных услуг и труда.
Барьером на пути к правильному определению роли государства в сфере образования является распространенное в академической среде представление о том, что образование не может быть товаром, услугой. Оно не согласуется с аксиоматическим положением о рабочей силе как о товаре и квалификации, полученной работником в процессе обучения, как основной составляющей рабочей силы. А если эта квалификация приобретается работником на возмездной основе, то она становится предметом купли-продажи на рынке труда.
Отрицать рыночную природу образовательных отношений означает игнорирование очевидного. Ведь по официальным данным 70% студентов обучается на платной основе, и даже бюджетники платят за дополнительные услуги в форме широко практикующейся так называемой спонсорской помощи со стороны их родителей. А планируемый государством перевод госвузов в режим автономных учреждений и, соответственно, получение ими бюджетных средств на основе госзаказов означает всеобщность системы платности высшего образования. Не важно, кто платит за образование – обучающийся или за него это делает государство, работодатель, его родители. Почему знание нельзя считать товаром, если дающий эти знания преподаватель работает на возмездной основе?
Информационное общество, на пороге которого стоит Россия, принципиально меняет роль образования в социальном и экономическом развитии. В качестве источника прибыли, двигателя экономического развития все в большей мере выступают знания, умения и инновации, деловая инициатива, предприимчивость. Поэтому на смену старой парадигме трудовой стоимости, которая не учитывала фундаментальной роли информации и образования в экономике, приходит информационная теория стоимости и человеческого капитала. В информационном обществе знания и интеллект постоянно превращаются в основной капитал, имея своим следствием преобразование отношений в сфере образования в разновидность экономических отношений. Образовательная деятельность, продолжая оставаться интеллектуальной по сути, реализуется в форме услуг, товаров [6].
Рынок существует не только около и вокруг вуза, но и пронизывает его деятельность изнутри. При существующих масштабах платного образования нельзя не видеть, что рынок образовательных услуг состоялся и стал определяющим фактором в жизнедеятельности высшей школы. Другой вопрос, насколько цивилизованным он является.
Признание образования одной из сфер экономической деятельности его рыночного характера должно повлечь за собой существенные изменения в системе управления.
Управление, как известно, – явление надстроечного порядка. Поэтому в основе своей оно должно отражать природу базисных отношений, т.е. характер и требования рынка. К сожалению, существующая система управления высшей школой функционирует не согласно, а вопреки основной природе рыночных отношений.
Акт товарного обмена есть приравнивание различных потребительных стоимостей по их стоимости. Поэтому основным требованием рыночных отношений является обеспечение равенства правового статуса их участников, закрепленное в Конституции (ст. 8) и Гражданском кодексе РФ (ст. 1). Реальность же такова, что все негосударственные вузы, в том числе и аккредитованные, работают юридически и фактически в дискриминационном режиме. Нет фактического равенства и среди государственных вузов. Более того, взят курс на создание многоступенчатой иерархии вузов, выстраиваемой Министерством образования и науки.
Инициаторы модернизации полагают, что так называемые ведущие вузы, получившие такой статус со всеми привилегиями в области финансирования и прав в области образовательной деятельности из рук правительства, станут локомотивами развития всей системы образования. На деле же следствием такой политики, игнорирующей рыночные подходы, является новая ступень монополизации – олигархизация высшего образования в руках немногочисленных вузов. Реально они могут быть только тормозом, а не локомотивом развития. Таковы жесткие законы монополизированного рынка.
Акт товарного обмена есть акт распоряжения товаропроизводителя своим товаром. Сама его природа требует свободы экономической деятельности, самостоятельности, независимости участников. В образовании это требование закреплено Законом об образовании, провозглашающим автономию вузов, что считается в мире краеугольным принципом функционирования вуза. Но действительность такова, что через все более ужесточаемую систему регламентации жизнедеятельности вузов и реализуемую в образовании (после неудачи в сфере производства) госприемки государство в лице Министерства, по существу, присвоило себе взаимоисключающие функции и товаропроизводителя, и заказчика образовательных услуг, собственника конкурирующей системы и государственного управления. Роль непосредственного потребителя-обучающегося и работодателя не усматривается. Сегодня вузы имеют куда меньше автономии, чем в советские времена.
Природа рыночных отношений такова, что она должна быть основана на свободной цивилизованной конкуренции и исключает монополизм. Но в реальности государство по существу вывело рынок образовательных услуг из-под действия антимонопольного законодательства и само стало проводником монополистической деятельности. Функции производителя образовательных услуг и заказчика лицензирования, аттестации и аккредитации, финансирования и распределения госзаказов, нормативного регулирования и государственного контроля осуществляет фактически генеральный агент государственной монополии – Министерство образования и науки. Функции управления и собственника совмещены в деятельности этого Министерства, что недопустимо в условиях рынка. Идея создания независимой службы аттестации и аккредитации, содержавшаяся в Законе об образовании в редакции 1992 г., оказалась нереализованной, а затем и отвергнутой.
На рынок образовательных услуг, как и на любой рынок, распространяется действие правовых принципов недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и неприкосновенности собственности. Реализация их возможна только при наличии сильных и действительно самостоятельных вузов, чего в России нет.
Об их самостоятельности и неприкосновенности собственности не приходится говорить в силу незащищенности вузов в процессе их учредительства, лицензирования, аккредитации и постоянно изменяющихся правил игры, когда у одного ведомства, манипулирующего нормативами, сосредоточивается стопроцентная возможность открытия или закрытия любого вуза и в любой момент. Более того, существующий внесудебный порядок взыскания налоговых и иных платежей, даже при наличии права его судебного оспаривания, подрывает этот принцип. Только общий порядок признания товаропроизводителя несостоятельным может обезопасить вузы от административного произвола. Приостановление, а затем отзыв лицензии означает для вуза крах даже при очевидной ошибочности и предвзятости решения лицензирующего органа.
Рынок образовательных услуг весьма специфичен. Значимость и особая роль образования предопределяют необходимость государственного протекционизма. Государство не может отдать образование на откуп свободному рынку, но пределы государственного вмешательства должны быть четко обозначены с учетом рыночного характера и интеллектуальной сути отношений в сфере образования. Роль государства должна быть ограничена рамками стратегического макроэкономического управления и нормативного определения основных качественных параметров вузовской деятельности на уровне федерального закона и соответствующего контроля. К сожалению, государство отказалось от стратегического макроэкономического управления – как процессами, так и ресурсами. Сохранившаяся с советских времен система бюджетного финансирования ни в коей мере не ориентирована на достижение качества и нужных обществу результатов. Серьезный экономический анализ и долгосрочная экономическая стратегия отсутствуют. Отношение к образованию как к экономической деятельности еще не стало значимой частью сознания управленческого персонала и самих вузов.
И задача государства состоит прежде всего в создании организационно-экономического механизма функционирования вузов, предусматри- вающего внутренние стимулы саморазвития при их подлинной автономии. И в основу такого механизма должны быть положены рыночные подходы, обеспечивающие цивилизованную конкуренцию участников образовательных отношений. Платность в образовании при отсутствии конкурентной среды может иметь только негативные последствия.
Сегодня рынок образовательных услуг напоминает «барахолку», где не действуют элементарные законы рынка, а честная конкуренция подавляется государственной политикой дискриминации одних и предоставления преимуществ и даже административных ресурсов другим участникам рынка. А весь маркетинг образовательных услуг укладывается в спонтанные акции по дискредитации конкурентов с использованием административных ресурсов и иных недобросовестных приемов.
Цивилизованность рынка образовательных услуг невозможно обеспечивать только посредством тотального государственного контроля качества, особенно через нынешние бюрократические институты лицензирования, аттестации и аккредитации, ЕГЭ и такой экзотической меры, как реализованная Министерством идея полиции качества. Госприемка может быть приемлема в вузе лишь как чрезвычайная и временная мера. Наиболее надежным регулятором качества может быть только здоровая конкуренция вузов на рынке образовательных услуг, а их выпускников – на рынке труда.
С появлением рынка образовательных услуг и, соответственно, такого субъекта рынка, как «обучаемый», происходит существенное изменение в понимании качества образования и определении его целей. На смену информативнорепродуктивному подходу к оценке качества образования с точки зрения освоения заданного объема знаний приходит новая парадигма, при которой качество оценивается по степени удовлетворения разнообразных потребностей обучаемых и работодателей, имеющих достаточно индивидуальный характер. Цели и интересы общества и обучаемого не всегда совпадают. Потребность общества обеспечивается через систему государственного регулирования фундаментальной составляющей содержания образования, а потребности обучаемого – посредством гражданско-правовых договоров, заключаемых им с учебным заведением. Рыночный подход заключается в том, что и тот, и другой потребитель должен оплачивать полученные услуги и результат образовательной деятельности: один – в виде государственного финансирования и иной поддержки, а другой – в виде платы за обучение. Из признания государства потребителем образовательных услуг вытекает ряд важных для определения его роли выводов.
Во-первых, государственная поддержка образования обусловлена не только его общественной значимостью, но и финансовыми вложениями в образование, выражающими цену образовательных услуг, получаемых обществом от образовательной системы. И получателями ее должны быть все производители образовательных услуг, в том числе негосударственные учебные заведения, как это было предусмотрено первоначально в Законе об образовании в 1992 г.
Во-вторых, природе государства как потребителя образовательных услуг не свойственно осуществление функций товаропроизводителя, каковым оно ныне является. Отказ государства от этих функций возможен при сохранении государственного сектора образования только посредством обеспечения подлинной автономии всех вузов, в том числе государственных. Приватизация последних нам представляется преждевременной, а при существующей ситуации – недопустимой.
Государственный протекционизм сферы образования не сориентирован на создание цивилизованного рынка и использование рыночных механизмов. Он представляется крайне односторонним. Бюджетное финансирование сохраняет все черты планово-распределительной системы. Сегодня государство стремится стимулировать вложения в реальную экономику. Но существует масса барьеров на пути частных инвестиций в образование. Это отмена налоговых льгот, дискриминационный режим функционирования негосударственного сектора. Ресурсная поддержка государственного сектора минимальная, а негосударственный сектор функционирует вообще без таковой. Необходимость ресурсной поддержки государством высшей школы, в том числе негосударственной, обусловлена тем, что она не является распорядителем и продавцом конечной продукции – квалификации, полученной ее выпускником. И те, кто добивается высокого качества посредством наращивания вложений в подготовку специалистов, не могут рассчитывать не только на предстоящие прибыли, но даже и на компенсацию произведенных затрат. В такой ситуации происходит присвоение обществом некомпенсированных затрат системы образования, неоплаченного труда профессорско-преподавательского состава, интенсификация которого позволяет поддерживать какой-то определенный уровень качества.
Между тем государство эту особенность рынка образовательных услуг не учитывает. В то же время наиболее отчетливо прослеживается только одно – ужесточение государственного контроля. Министерство образования сейчас начало настоящие боевые действия против созданных по его же вине всевозможных филиалов и негосударственных вузов. При этом оно само (а не закон) определяет нормативы деятельности вузов, осуществляет функции собственника, потребителя, государственного управления и контролера, решает вопросы открытия и закрытия вузов. Права вузов не защищены от неизбежного в такой ситуации административного произвола.
Административный режим ужесточается. Особенно эта тенденция выражена в принимаемых в последние годы изменениях в федеральном законодательстве и политике Министерства образования и науки России. Весь образовательный процесс, начиная с нового набора и кончая выпуском, закрепощен многочисленными административными регламентами. Более того, планируется введение экзаменов по аналогии с ЕГЭ, основанном на знаниевом подходе, и в систему высшего образования, что противоречит провозглашенному Министерством компетентностно-ориентированному подходу в подготовке кадров. Налицо попытка управления всей системой образования как одной фабрикой.
Новый закон об образовании провозглашает весьма демократические свободы и прогрессивные принципы правового регулирования отношений в сфере образования. Но все эти нормы носят декларативный либо отсылочный характер. Если же обратиться к тем правовым актам, к которым отсылает закон, то обнаруживается, что названные в нем принципы, права и свободы граждан и образовательных организаций недостаточно обеспечены либо их вообще невозможно осуществить в силу отсутствия механизма реализации. На деле же административный режим функционирует прямо в противоположном направлении.
Законодательство об образовании имеет своим призванием реализацию права личности на образование как одного из фундаментальных прав человека, следовательно, более полное удовлетворение его духовных потребностей. Этому праву корреспондирует обязанность государства создать все необходимые и возможные условия для реализации этого права. Государственная политика в области образования не должна заклю- чаться в диктате, что сегодня превалирует и превращает граждан и образовательные учреждения из главных субъектов образовательной деятельности в исключительно обязанных перед государством лиц.
Поэтому должны быть четко определены пределы административного вмешательства государства в систему образования, разделены функции государственного управления и собственника, производителя образовательных услуг и заказчика, государственного контроля и системы аккредитации, которые по примеру зарубежных стран должны стать прерогативой профессиональных сообществ и работодателей. Ныне же все эти функции сосредоточены в руках Министерства образования и науки – главного агента монополистической конкурирующей на рынке системы. Следует вывести Рособрнадзор из подчинения Министерству образования и науки, воссоздать федеральное агентство по образованию как организационно самостоятельный орган управления государственной системой образования. А вузам должно быть предоставлено право ведения образовательной деятельности без лицензии по всем программам, которые не составляют предмет государственной стандартизации и разрабатываются ими самостоятельно. Организацию госзаказа на образовательные услуги и проекты следует передать Министерству экономического развития.
Действующим законодательством, несмотря на провозглашаемые им либеральные лозунги, полностью игнорируются рыночные реалии. Образование в России – единственная сфера, где система государственного управления, которая если и претерпела изменения, то в сторону гораздо более жесткой системы административного регулирования, чем в советское время. Между тем образовательные отношения по своей природе являются гражданско-правовыми.
Российская высшая школа сегодня переживает кризис. Но она не нуждается в административном кнуте. У нее есть созданный веками фундамент и творческий потенциал, претворение которого выведет ее вновь на передовые рубежи. Но она сегодня не имеет стимулов саморазвития и свободы. А высокий уровень развития высшей школы не востребован обществом, находящимся в плену иллюзий о самодостаточности сугубо государственных подходов и мер по модернизации системы, вступающей во все большие противоречия с потребностями нарождающегося гражданского общества.
Список литературы Право на образование: проблемы реализации в условиях модернизации высшей школы
- Всеобщая декларация прав человека. -URL: http://www.consultant.ru.
- Комментарий к Конституции Российской Федерации. -М.: БЭК, 1994. -С. 51.
- Ожегов, С.И. Словарь русского языка/С.И. Ожегов. -17-е изд. -М.: Русский язык, 1985. -С. 58.
- Эйхер, Ж. Переосмысление проблем финансирования послесреднего образования/Ж. Эйхер, Т. Шевалье//Высшее образование в Европе. -1992. -Т. 17. -№1. -С. 12.
- Управление современным образованием. Социальные и экономические аспекты/под ред. А.Н. Тихонова. -М.: Вита-Пресс, 1998. -С. 13-15.
- Чиркунов, О. Государство и конкуренция/О. Чиркунов. -М.: Новое литературное обозрение, 2012. -С. 62.
- Bell, D. The Social Framework of Information Society/D. Bell//The Computer Age: Atwenty year view. -London, 1981. -P. 168.