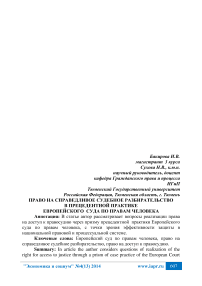Право на справедливое судебное разбирательство в прецедентной практике Европейского суда по правам человека
Автор: Бакирова И.В., Сухова Н.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-1 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает вопросы реализации права на доступ к правосудию через призму прецедентной практики Европейского суда по правам человека, с точки зрения эффективности защиты в национальной правовой и процессуальной системе.
Европейский суд по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство, право на доступ к правосудию
Короткий адрес: https://sciup.org/140109028
IDR: 140109028
Текст научной статьи Право на справедливое судебное разбирательство в прецедентной практике Европейского суда по правам человека
В демократическом и правовом государстве право на справедливое судебное разбирательство, иначе именуемое как «надлежащее отправление правосудия», занимает такое значимое место, что нельзя его приносить в жертву целесообразности. Это связано с тем, что право на справедливое судебное разбирательство каждого участника процесса гарантировано принципом верховенства права, являющегося одним из элементов духовного наследия человечества [1,с.548].
Пункт 1 статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция, ЕКПЧ), среди прав, которые должны гарантироваться государствами, закрепляет право каждого, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения, на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо -при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.
Право на доступ к правосудию, хотя непосредственно в ЕКПЧ и не упоминается, но Европейский Суд признает его неотъемлемым элементом Конвенции. Европейский суд по правам человека, рассматривая дела относительно нарушения права на справедливое разбирательство, толкует указанную статью не только как содержащую детальное описание гарантий, представленных сторонам по гражданским делам. Но в том числе, и защищающую в первую очередь то право, которое даёт возможность фактически пользоваться такими гарантиями. Речь идет о доступе к суду, поскольку такие характеристики процесса как справедливость, публичность, динамизм, лишаются смысла, если нет самого судебного разбирательства. Отсюда следует, что право на справедливое судебное разбирательство, закреплённое в ст. 6 ЕКПЧ, необходимо рассматривать шире, чем оно прописано в самой норме, а именно как право на доступ к правосудию.
Иными словами, государства – участники ЕКПЧ обязаны создавать достаточные оптимальные условия по обеспечению доступности правосудия как общепризнанного международного стандарта справедливого судопроизводства. Согласно прецедентной практики Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), в обязанность государства по обеспечению доступа к правосудию входит обеспечение юридически и практически доступных и эффективных средств правовой защиты. И если государства пользуются большой свободой в выборе средств правовой защиты, способных позволить их судебной системе отвечать требованиям статьи 6 Конвенции, средства, предлагаемые внутренним правом, должны в любом положении дела оказываться эффективными [1,с.575].
В частности, неприемлемо, чтобы национальная правовая система фактически допускала неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу. Это лишает статью 6 (п.1) Конвенции полезного смысла, делает право на доступ к правосудию иллюзорным, поскольку исполнение судебного решения является частью справедливого судебного разбирательства.
В деле «Бурдов (Burdov) против России» (решение Европейского суда по правам человека от 7 мая 2002 г.) [2] ЕСПЧ вновь напоминает, что пункт 1 статьи 6 Конвенции закрепляет за каждым право обращаться в суд в случае любого спора о его гражданских правах и обязанностях; таким образом она заключает в себе "право на суд", одним из аспектов которого является право на доступ к правосудию, представляющее собой право возбуждать исковое производство в судах по вопросам гражданско-правового характера. Однако, такое право было бы иллюзорным, если бы правовая система государства-участника ЕКПЧ допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, оставалось бы недействующим в отношении одной стороны в ущерб ее интересам. Немыслимо, что пункт 1 статьи 6, детально описывая процессуальные гарантии сторон -справедливое, публичное и проводимое в разумный срок разбирательство -не предусматривал бы защиты процесса исполнения судебных решений. Толкование указанной нормы исключительно в рамках обеспечения лишь права на обращение в суд и порядка судебного разбирательства вероятней всего привело бы к ситуациям, несовместимым с принципом верховенства права, который государства-участники Европейской Конвенции обязались соблюдать, подписав Конвенцию. Исполнение судебного решения, принятого любым судом, должно, таким образом, рассматриваться как составляющая "судебного разбирательства" по смыслу статьи 6 ЕКПЧ (см. Постановление Европейского Суда по делу "Хорнсби против Греции" (Hornsby v. Greece) от 19 марта 1997 г., Reports of Judgments and Decisions 1997-II, p.510, 40) [10].
Не принятием, на протяжении нескольких лет, необходимых мер по исполнению вступивших в законную силу судебных решений по данному делу, власти Российской Федерации лишили положения пункта 1 Статьи 6 Конвенции какого-либо полезного смысла (п.37 решения).
По мнению автора, государства-участники обязаны не только закреплять в национальной правовой системе эффективные способы исполнения судебных решений и осуществления контроля за полным и своевременным исполнением последних, но и, в случае обнаружения неэффективности конкретных правовых норм, затрагивающих сущность права на доступ к правосудию, незамедлительно принимать конкретные и действительные меры по повышению эффективности такого права.
В частности, в целях обеспечения исполнения решения суда вступившего в законную силу российскому законодателю целесообразно произвести ряд позитивных действий по внесению изменений в законодательные акты; необходимо также постоянно повышать качество юридической практики:
-
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, каждое решение суда, вступившее в законную силу обязательно для исполнения на всей территории Российской Федерации. Между тем, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит нормы, позволяющие должнику получить отсрочку или рассрочку исполнения судебных актов или изменить способ и порядок их исполнения (статья 37 указанного закона). Опасение автора обусловлены тем обстоятельством, что применение данной нормы на практике в области исполнительного производства влечет за собой, как правило, нарушение прав взыскателя. Такое положение дел связано с тем, что отсутствуют какие-либо легальные разъяснения, способствующие единообразному решению в юридической практике вопроса, с одной стороны, о случаях, когда заявитель вправе инициировать вопрос рассрочки, отсрочки изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а с другой стороны – об условиях, при которых подобное требование подлежит удовлетворению судом. Поскольку это обстоятельство делает в целом ряде случаев доступ к правосудию неэффективным, идея автора заключается в необходимости искать пути, которые могут быть использованы судами и органами принудительного исполнения в целях повышения качества их юридической практики. Необходимо вопрос рассрочки, отсрочки, изменения способа и порядка исполнения судебных постановлений, разъяснить в специальном акте легального толкования. В нем следует указать, при каких обстоятельствах, затрудняющих исполнение судебного акта, требования – взыскателя, должника или судебного пристава–исполнителя – о рассрочке, отсрочке, изменении способа и порядка исполнения судебного акта, подлежат удовлетворению.
-
- положение ФЗ «Об исполнительном производстве», устанавливающее право судебного пристава–исполнителя отложить исполнительные действия на срок не более 10 дней «по собственной инициативе», в свою очередь, также не гарантирует права взыскателя, гарантированные Конституцией РФ и Конвенцией (ст.6). Для создания действенного и эффективного механизма защиты здесь следовало бы (по аналогии с процессуальным законодательством при отложении судебного разбирательства), урегулировать случаи, в которых пристав обязан или
- вправе произвести соответствующее действие. Такой перечень при этом не должен носить исчерпывающий характер.
-
- часть 1 статьи 36 ФЗ Об исполнительном производстве устанавливает 2-х месячный срок для совершения исполнительных действий, указанных в исполнительном листе, судебным приставом-исполнителем. В случае нарушения данного срока, взыскатель может оспорить действия/бездействия пристава-исполнителя в порядке предусмотренном главой 18 указанного закона. ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусматривает ответственность приставов-исполнителей за нарушение 2-х месячного срока исполнения судебных актов, что ставит под сомнение исполнение судебных актов в разумный срок. По мнению автора, в ФЗ «Об исполнительном производстве» необходимо внести следующие изменения: в части 3 статьи 127 ФЗ «Об исполнительном производстве» пункт 4) изложить в следующей редакции: «признать действия (бездействие), отказ в совершении действий неправомерными и обязать совершить действия, которые должны быть предприняты в целях устранения допущенных нарушений; принятие подобных мер должно обеспечить соблюдение 2-х месячного срока, установленного ч.1 ст.36 настоящего закона»
-
- в соответствии с ч.2 ст.1 ФЗ «Об исполнительном производстве», условия и порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации (Бюджетным Кодексом Российской Федерации, главой 24.1 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Установленный настоящей главой порядок обращения взыскания растянут во времени, в частности установлен 3-х месячный срок для выделения лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов по исполнению судебных актов, в случае их недостаточности. Установленный временной интервал нарушает принцип разумности сроков исполнения судебных актов, вступивших в законную силу и лишает ст.6 Конвенции ее полезного смысла. Необходимо сократить сроки выделения лимитов до 1 месяца, внести соответствующие поправки в часть 6 статьи 242.3 Налогового кодекса РФ: слова «трехмесячный срок» заменить на «месячный срок».
В прецедентной практике ЕСПЧ неоднократно указывается на то, что судебный контроль касается только правомерности: соответствует ли процедура, предусмотренная внутренним правом, достижению результата, иными словами - обеспечен ли доступ к правосудию, как это предусмотрено статьей 6 Конвенции.
В деле «Дорохов (Dorokhov) против Российской Федерации» (постановление Европейского суда по правам человека от 14 февраля 2008
г.) [3], по мнению Суда, право на вызов свидетелей защиты не является абсолютным и может быть ограничено в интересах надлежащего отправления правосудия. В качестве общего правила именно национальные суды оценивают представленные им доказательства, как и относимость доказательств, о приобщении которых ходатайствуют обвиняемые. Конкретно подпункт "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции возлагает в первую очередь на них оценку целесообразности вызова свидетелей; он не требует присутствия и допроса каждого свидетеля со стороны обвиняемого: его существенная цель, как указывают слова "на тех же условиях", заключается в обеспечении полного равенства сторон по делу (см., например, Постановление Европейского Суда от 25 марта 1992 г. по делу "Видал против Бельгии" (Vidal v. Belgium), Series A, N 235-B, pp. 32-33, §33) [11, с.368]. Что касается свидетелей со стороны обвиняемого, только исключительные обстоятельства могут вынудить Европейский Суд заключить, что отказ в допросе таких свидетелей составляет нарушение статьи 6 Конвенции (см. Постановление Европейского Суда от 7 июля 1989 г. по делу "Брикмон против Бельгии" (Bricmont v. Belgium), Series A, N 158, §89) [11, с.345] (п.65 постановления).
Европейский Суд подчеркивает, что его задача заключается в том, чтобы удостовериться, было ли справедливым судебное разбирательство в целом, включая способ получения и исследования доказательств в суде (см. указанное выше Постановление Европейского Суда по делу "Аш против Австрии", с. 10, §26) [11, с.315] (п.66 постановления).
Европейский Суд заключил, что фактический отказ судов страны от вызова свидетелей защиты при особых обстоятельствах настоящего дела не затронул общей справедливости судебного разбирательства. Следовательно, по делу требования подпункта "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции, взятого во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, нарушены не были (п.75 постановления).
Суд постановил, что по делу требования подпункта "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции, взятого во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, в части уклонения суда от вызова свидетелей защиты нарушены не были.
Однако имеется совместное, частично не совпадающее, Особое мнение судей Лоренсена и Цаца-Николовски: «Соглашаясь с большинством в том, что по делу допущено нарушение статьи 3 Конвенции, мы не можем согласиться с тем, что по делу требования подпункта "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции, взятого во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, нарушены не были… Только при исключительных обстоятельствах отказ в вызове таких свидетелей составит нарушение статьи 6 Конвенции (см. §65 постановления). Однако, по нашему мнению, статья предполагает, что когда ходатайство защиты о вызове свидетелей отклоняется, национальный суд обязан - за исключением случаев, когда свидетельские показания явно не относятся к делу, - вынести мотивированное определение о том, по каким причинам их вызов нецелесообразен…. По нашему мнению, полное уклонение судов страны от рассмотрения ходатайства о вызове соответствующих свидетелей и вынесения по нему мотивированного определения не совместимо с требованиями подпункта "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции, взятого во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6 Конвенции. Соответственно, имело место нарушение данных положений Конвенции.»
По мнению автора, в процессуальном законодательстве Российской Федерации присутствуют нормы, позволяющие суду необоснованно отклонить ходатайства о вызове свидетелей. Так частью 2 статьи 69 ГПК РФ предусмотрена обязанность лица, ходатайствующего о вызове свидетеля в суде, указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель. Между тем, лица, участвующие в деле в соответствии с Конституцией РФ, ст.6 (п.1) Конвенции, имеют неотъемлемые равные права на судебную защиту, право на суд. Закрепление в ГПК РФ односторонней «обязанности» лица, ходатайствующего о вызове свидетеля, доказать относимость таких доказательств к делу, при отсутствии обязанности лица, возражающего против вызова свидетеля, обосновать свои возражения, ставит под вопрос реализацию права доступа к правосудию. Необходимо часть 2 статьи 69 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства. Лицо, возражающее против вызова свидетеля, обязано обосновать свои возражения».
Рассмотрев реализацию права на справедливое судебное разбирательство в прецедентной практике Европейского суда по правам человека, необходимо отметить:
-
А) Право на справедливое судебное разбирательство гарантировано национальной правовой системой, Конвенцией. Это - основополагающий всемирно признанный международный принцип права, запрещающий отказ в правосудии.
Г) Право на справедливое судебное разбирательством не является абсолютным и требует государственного регулирования (юрисдикционный иммунитет). Государству дана свобода усмотрения в вопросе регулирования реализации данного права, но без изменения сущности такого права.
Д) ЕСПЧ требует от Государств-участников совершения позитивных действий в обеспечении эффективности права доступа к правосудию. Государство не может бездействовать и оставаться пассивным и должно постоянно совершенствовать национальную систему права с целью повышения эффективности реализации права на доступ к правосудию.
-
Е) Обеспечение государством эффективности, доступности, ясности и конкретной возможности реализации права на доступ к правосудию
является гарантом повышения доверия к государству, развития гражданского общества, укрепления демократии, единства и верховенства права.