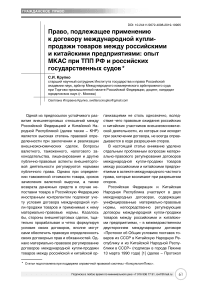Право, подлежащее применению к договору международной купли-продажи товаров между российскими и китайскими предприятиями: опыт МКАС при ТПП РФ и российских государственных судов
Автор: Крупко Светлана Игоревна
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 9 (216), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы проблемные вопросы, возникающие при определении права, подлежащего применению к договорам международной купли-продажи товаров, заключенным между российским и китайским предприятиями. Основываясь на практике Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и российских государственных судов, автор исследует правовой статус Общих условий поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР (ОУП СССР - КНР), разные подходы к квалификации правового характера норм этого акта. Рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности заключать соглашение о выборе применимого к договору права и прямо выражать в нем свою волю относительно применимости ОУП СССР - КНР.
Оуп ссср - кнр, венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, договор поставки между российским и китайским предприятиями, подлежащее применению право
Короткий адрес: https://sciup.org/170173091
IDR: 170173091 | DOI: 10.24411/2072-4098-2019-10905
Текст научной статьи Право, подлежащее применению к договору международной купли-продажи товаров между российскими и китайскими предприятиями: опыт МКАС при ТПП РФ и российских государственных судов
Одной из предпосылок устойчивого развития внешнеторговых отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (далее также – КНР) является высокая степень правовой определенности при заключении и реализации внешнеэкономических сделок. Вопросы валютного, таможенного, налогового законодательства, лицензирования и другие публично-правовые аспекты внешнеторговой деятельности регулируются нормами публичного права. Однако при определении таможенной стоимости товара, сроков зачисления валютной выручки, а также возврата денежных средств в случае непоставки товара в Российскую Федерацию иностранным контрагентом подлежат учету условия договора международной купли-продажи товаров и применимые к нему материально-правовые нормы. Казалось бы, стороны внешнеторговых сделок, тщательно прорабатывая и четко формулируя условия своих договоров, вполне могут сами обеспечить правовую определенность своих договорных прав и обязанностей. Однако материально-правовое регулирование договоров международной купли-продажи товаров между российской и китайской ор- ганизациями не столь однозначно, вследствие чего правовые ожидания российских и китайских участников внешнеэкономической деятельности, из которых они исходят при заключении договора, не всегда оправдываются в ходе разрешения споров.
В настоящей статье внимание уделено отдельным проблемным вопросам материально-правового регулирования договоров международной купли-продажи товаров между российскими и китайскими предприятиями в аспекте международного частного права, которые возникают при разрешении споров.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика участвуют в двух международных договорах, содержащих унифицированные материально-правовые нормы, непосредственно регулирующие договоры международной купли-продажи товаров между российскими и китайскими предприятиями, – в межведомственном двустороннем международном договоре «Протокол об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР» (подписан в городе Пекине 13 марта 1990 года) [1] (далее – Протокол об ОУП СССР – КНР), который продолжает действовать для Российской Федерации как для правопреемницы СССР (подробнее см. [2, с. 62]) и многостороннем международном договоре Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 года (далее – Венская конвенция) (см. [3]).
Неотъемлемой частью Протокола об ОУП СССР – КНР являются Общие условия поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР (далее – ОУП СССР – КНР), которые также имеют статус международного договора. Материальноправовое регулирование ОУП СССР – КНР достаточно подробное и охватывает практически все вопросы, возникающие при заключении и исполнении договора поставки между российской и китайской организациями, а именно порядок заключения, изменения и дополнения договора поставки, базисные условия поставки товара при использовании железнодорожного, водного, автомобильного, воздушного транспорта и при почтовых отправлениях товара, срок поставки и ответственность за просрочку поставки товара, качество товара, включая порядок его проверки, количество товара и порядок его проверки, требования к упаковке и маркировке товара, техническая документация и ответственность за просрочку ее представления, условия о гарантиях, транспортные инструкции и извещения, порядок расчетов и ответственность за просрочку исполнения денежных обязательства, порядок предъявления претензий, форс-мажорные обстоятельства и последствия их наступления, порядок уступки прав и обязанностей по договору поставки.
Предмет регулирования ОУП СССР – КНР в существенной части пересекается с предметом регулирования Венской конвенции, которая, в частности, определяет условия заключения договора, обязательства продавца по поставке товара и передаче документов, обязательства покупателя по уплате цены и принятию поставки, сред- ства правовой защиты в случае нарушения договора продавцом и покупателем, порядок и условия взыскания убытков, основания взыскания процентов, условия освобождения от ответственности, последствия расторжения договора и другие вопросы.
Как известно, при наличии применимых унифицированных материальных норм международных договоров вопрос о применимом праве не возникает, что исключает применение коллизионных норм к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, в силу прямого указания в пункте 3 статьи 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [36]. В современной практике международной торговли также общепризнано, что стороны договора в силу автономии воли сторон вправе по своему усмотрению определить право, подлежащее применению к их договорным отношениям. Этот подход закреплен в законодательстве Китайской Народной Республики (ст. 41 Закона КНР «О применении права к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом» [37]) и Российской Федерации (см. ст. 1210 ГК РФ). Таким образом, при рассмотрении споров, возникающих или связанных с заключенным между российским и китайским предприятиями договором международной купли-продажи товаров, компетентный орган определяет право, подлежащее применению к существу спора:
-
1) руководствуясь соглашением сторон о выборе применимого права, а в его отсутствие – применимыми коллизионными нормами;
-
2) принимая во внимание соотношение двух международных договоров с пересекающимся предметом регулирования – Венской конвенции и ОУП СССР – КНР;
-
3) учитывая правовой характер материальных норм Венской конвенции и ОУП СССР – КНР.
Относительно особенностей применения Венской конвенции к договорам международной купли-продажи товаров между рос- сийской и китайской организациями следует отметить следующее.
Венская конвенция вступила в силу для Китайской Народной Республики 1 января 1988 года, для Российской Федерации – 1 сентября 1991 года и применяется к договорам международной купли-продажи товаров между российским и китайским предприятиями, заключенными после 1 сентября 1991 года.
В пункте 1 статьи 1 Венской конвенции установлены два основания ее применения:
-
1) в силу прямого действия унифицированных материальных норм международного договора (подп. «а»);
-
2) в силу непрямого действия на основании норм международного частного права (подп. «b»).
Согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 Венская конвенция применяется, когда коммерческие предприятия сторон договора находятся в разных государствах – участниках Венской конвенции.
В соответствии с подпунктом «b» пункта 1 статьи 1 Венская конвенция может применяться к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах (например, если одно или оба государства, где находятся коммерческие предприятия – стороны договора, не участвуют в Венской конвенции), когда согласно нормам международного частного права, то есть на основании соглашения сторон о применимом праве или на основании применимых коллизионных норм, применимо право государства – участника Венской конвенции.
Важно обратить внимание на то, что в статье 6 Венской конвенции закреплен диспозитивный характер ее норм и прямо предусмотрено, что стороны могут исключить ее применение или, при условии соблюдения статьи 12 о форме сделки, отступить от любого из ее положений или изменить его действие. Таким образом, в силу диспозитивного характера норм Венской конвенции, за исключением положений о форме сделки, условия договора международной купли-продажи имеют приоритет в отношении положений Венской конвенции.
При утверждении Венской конвенции Китайская Народная Республика заявила, что она не будет связана положениями подпункта «b» пункта 1 статьи 1 Венской конвенции. На практике это заявление имеет значение только в случае, когда коммерческое предприятие одной стороны договора международной купли-продажи товаров находится на территории Китайской Народной Республики, а коммерческое предприятие другой стороны договора – на территории государства, не участвующего в Венской конвенции (подробнее см. [4, c. 443–444; 5, Kommentar zum Art. 95, Rn. 2; 6, с. 206 (автор комментария А.М. Городисский)]). При таких обстоятельствах при разрешении спора в суде КНР или в международном коммерческом арбитраже на территории КНР Венская конвенция применяться не будет. Однако следует отметить, что вопрос о том, обязан ли суд государства, которое не заявило об отказе применять Венскую конвенцию на основании подпункта «b» пункта 1 статьи 1 или суд государства, не участвующего в Венской конвенции, а также международный коммерческий арбитраж на территории таких государств, учитывать заявление другого государства – участника Венской конвенции о неприменении Венской конвенции на основании подпункта «b» пункта 1 статьи 1 (на основании норм международного частного права) или же может применять конвенцию на основании подпункта «b» пункта 1 статьи 1, является дискуссионным. Прямо свою позицию по этому вопросу выразила Федеративная Республика Германия, которая при ратификации Венской конвенции заявила, что она не будет применять подпункт «b» пункта 1 статьи 1 в отношении любого государства, сделавшего заявление о том, что это государство не будет применять подпункт «b» пункта 1 статьи 1.
На первый взгляд для договоров, заключенных между юридическими лицами, заре- гистрированными в Российской Федерации и КНР, заявление о неприменении Венской конвенции на основании подпункта «b» пункта 1 статьи 1 не имеет практического значения, так как Венская конвенция может применяться к такому договору на основании подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Венской конвенции, если только стороны не воспользовались правом, предоставленным им статьей 6 Венской конвенции, и не исключили ее применение к договору. Однако необходимо обратить внимание на то, что толкование термина «коммерческое предприятие» и критерии определения его места нахождения в Венской конвенции не даны (в англоязычной версии – place of business). При этом термин «коммерческое предприятие» в целях применения Венской конвенции имеет иное значение, чем предприятие, организация, юридическое лицо как субъект права. Один из наиболее авторитетных специалистов в области международного коммерческого арбитража И.С. Зыкин подчеркивает, что в самой конвенции содержание термина «коммерческое предприятие» не раскрывается, однако анализ отдельных положений конвенции, использования понятий на других языках, комментариев различных авторов показывает, что речь идет о постоянном месте осуществления деловых операций, в качестве которого может рассматриваться место нахождения главного офиса юридического лица, его представительства, филиала (см. [6, с. 9–10 (автор комментария И.С. Зыкин)]). При определении стороны договора международной купли-продажи товаров и места нахождения коммерческого предприятия предлагается также учитывать отношения с представителем, агентом, отношения между материнской и дочерней компаниями (см. [5, Kommentar zum Art. 1, Rn. 50–52, 64]. Кроме того, если сторона договора имеет более одного коммерческого предприятия, то в целях применения Венской конвенции ее коммерческим предприятием считается то, которое с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее тесную связь с договором и его исполнением (подп. «а» ст. 10 Венской конвенции). Если же сторона не имеет коммерческого предприятия, то учитывается ее постоянное местожительство (подп. «b» ст. 10 Венской конвенции) 1.
С учетом изложенного нельзя исключить ситуацию, когда Венская конвенция не будет применена к договору международной купли-продажи товаров, заключенному между зарегистрированным в КНР юридическим лицом и зарегистрированным в Российской Федерации юридическим лицом, если договор от имени российского юридического лица заключен коммерческим предприятием, имеющим место нахождение на территории государства, не участвующего в Венской конвенции, например, филиалом российского юридического лица в Республике Казахстан 2.
Следующий вопрос, который имеет практическое значение, – это вопрос о соотношении материальных норм Венской конвенции и ОУП СССР – КНР.
В статье 90 Венской конвенции установлено, что конвенция не затрагивает действие любого международного соглашения, которое уже заключено или может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся предметом регулирования конвенции, при условии, что стороны имеют свои коммерческие предприятия в государствах – участниках такого соглашения.
В доктрине и судебно-арбитражной практике неоднократно подчеркивалось, что в целях применения статьи 90 Венской конвенции ОУП СССР – КНР рассматривают- ся как более специальный международный договор, материально-правовые нормы которого имеют приоритет в отношении положений Венской конвенции (см. [7, с. 417; 8, 9–20]).
Однако правой характер материальноправовых норм ОУП СССР – КНР оценивается по-разному. В зависимости от того, будет ли правоприменитель исходить из обязательного императивного и (или) диспозитивного характера ОУП СССР – КНР или же квалифицирует этот документ как факультативный, различным образом будут разрешены следующие вопросы:
-
1) какие материально-правовые нормы регулируют заключение и исполнение договора международной купли-продажи товаров между российской и китайской организациями – нормы ОУП СССР – КНР, Венской конвенции и (или) национального законодательства какого-либо государства;
-
2) ограничена ли автономия воли сторон и вправе ли стороны договора международной купли-продажи товаров отклониться от материально-правовых предписаний ОУП СССР – КНР и по своему усмотрению определить условия договора и выбрать применимое право или же российское и китайское предприятия должны руководствоваться нормами ОУП СССР – КНР как обязательными унифицированными материальными нормами международного договора, которые подлежат применению к договору независимо от волеизъявления сторон.
Поскольку содержание материальноправовых норм ОУП СССР – КНР и Венской конвенции не совпадает, в конечном итоге заключенность и действительность договора международной купли-продажи товаров между российской и китайской организациями, а также объем прав и обязанностей продавца и покупателя зависят от того, на основании каких материальных норм будут разрешаться эти вопросы.
Российским компаниям следует учитывать, что практике Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) при разрешении международных коммерческих споров, а также практике российских государственных судов при разрешении публично-правовых споров о таможенной стоимости товара, споров, связанных с нарушением российской компанией валютного законодательства Российской Федерации известны случаи, когда материально-правовые нормы ОУП СССР – КНР оценивались как обязательные (императивные и диспозитивные) и как факультативные.
Так, из обязательного характера ОУП СССР – КНР, в силу которого положения этого документа применяются при отсутствии ссылки на них в контракте, исходил МКАС при ТПП РФ при разрешении спора по делу № 505/1996 [30]. В отсутствие соглашения сторон о применении ОУП СССР – КНР этот акт был применен к договору международной купли-продажи товаров ОУП СССР – КНР МКАС при ТПП РФ в ряде других дел (см. [12–16, 33– 35]). При этом при разрешении споров по делам № 152/2012 [12], № 136/2012 [16], № 50/2009 [33], № 201/1997 [35] МКАС при ТПП РФ учитывал, что стороны в договоре согласовали применение к их договорным отношениям материального права Российской Федерации, а в делах № 47/1997 [13], № 66/2004 [34] МКАС при ТПП РФ определил применимое право в отсутствие соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору.
Однако, как писал один из наиболее авторитетных отечественных ученых М.Г. Розенберг, в ОУП СССР – КНР содержатся «положения неодинаковой степени обязательности» (см. [6, с. 26 (автор комментария М.Г. Розенберг)]), в том числе нормы, отступление от которых, по мнению М.Г. Розенберга, «невозможно ни при каких обстоятельствах (например, о письменной форме контракта, изменений и дополнений к нему, недопустимости заключения контракта без указания в нем качественных и (или) технических характеристик товара)» (см. [21, с. 20].
Относительно императивного характера положения ОУП СССР – КНР о письменной форме договора международной купли-продажи товаров, заключаемого между российским и китайским предприятиями, в российской доктрине и судебно-арбитражной практике споры не возникают, тем более что требование о соблюдении письменной формы такого договора вытекает и из Венской конвенции 3.
На недопустимость заключения договора международной купли-продажи товара российским и китайским предприятиями без указания в нем качественных и (или) технических характеристик товара в силу императивного характера положений § 8 ОУП СССР – КНР 4 ссылались российские государственные суды в делах об оспаривании решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товаров (см. [19, 20]). В решении от 25 января 2017 года по делу № А33-22585 Арбитражный суд Красноярского края констатировал, что ОУП СССР – КНР «фактически остаются обязательными при заключении договоров с партнерами из КНР» (см. [19]).
Однако практике МКАС при ТПП РФ известен прецедент, когда коллегия арбитров исходила из диспозитивного характера всех положений ОУП СССР – КНР и не применила их при разрешении спора по существу, приняв во внимание соглашение сторон о полном исключении применения к их договорным отношениям ОУП СССР – КНР (см. [27]).
В ряде решений МКАС при ТПП РФ квалифицировал отдельные положения ОУП СССР – КНР как диспозитивные и признал право сторон договора по своему усмотрению формировать условия сотрудничества (см. [12, 27, 28]). Так, в решении МКАС при ТПП РФ от 6 октября 1998 года по делу № 269/1997 [28] коллегия арбитров не применила положения § 39 ОУП СССР – КНР о порядке и сроке предъявления претензий по штрафам и рассмотрела требование об уплате процентов на основании условий, согласованных сторонами в договоре.
По мнению М.Г. Розенберга, в ОУП СССР – КНР содержатся также рекомендательные положения не нормативного, а инструктивного характера: «они требуют от сторон согласования в контракте условий по определенным вопросам, не указывая последствия их невыполнения» [6, с. 26 (автор комментария М.Г. Розенберг); 21, с. 20].
В российской доктрине и судебно-арбитражной практике также выражена позиция, согласно которой в настоящее время ОУП СССР – КНР имеют факультативный характер и подлежат применению только в случае, когда стороны договора выразили свое согласие на их применение (см. [22, с. 328; 23, с. 204; 13; 24–26]).
Так, в решении МКАС при ТПП РФ от 25 августа 1997 года по делу № 326/1996 [31] коллегия арбитров применила ОУП СССР – КНР, сославшись на то, что между сторонами договора заключено соглашение о применении данного документа к их договорным отношениям.
В решении МКАС при ТПП РФ от 3 марта 1999 года по делу № 202/1998 [27] арбитры не применили ОУП СССР – КНР исходя из их факультативности, указав, что между сторонами отсутствует соглашение о применении ОУП СССР – КНР.
Аналогичная позиция отражена в решении МКАС при ТПП РФ от 2 июля 2013 года по делу № 199/2012 [26], в котором арбитры указали не только на отсутствие соглашения сторон о применении ОУП СССР – КНР, но приняли во внимание то, что истец настаивал на неприменении ОУП СССР – КНР к контракту, а ответчик не заявил об их применении. Обосновывая факультативность ОУП СССР – КНР, коллегия арбитров ссылалась на то, что правопреемство России по поводу этого документа в 1991 году оформлено не было, а в межгосударственных соглашениях, которые Российская Федерация и Китайская Народная Республика заключили после 1991 года, страны не выразили своего отношения к нему. Однако, как уже было указано, правопреемство Российской Федерации в отношении ОУП СССР – КНР следует из Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации от 13 января 1992 года № 11 [29] (подробнее см. [2, с. 61–62].
В практике российских государственных судов также известны решения, в которых суд исходил из факультативного характера ОУП СССР – КНР. Так, в решении Арбитражного суда Амурской области от 19 ноября 2013 года по делу № А04-6934/2013 [32] по спору об оспаривании решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товара суд констатировал, что Протокол ОУП СССР – КНР подлежит применению только тогда, когда на него сделана ссылка в контракте или стороны иным образом выразили согласие на это. Эта позиция многократно повторялась в решениях по аналогичным делам, вынесенным Арбитражным судом Амурской области.
На взгляд автора настоящей статьи, преамбула ОУП СССР – КНР, в которой прямо указано, что ОУП СССР – КНР применяются к поставкам товаров между российскими и китайскими организациями, если иное не установлено в контрактах в силу специфики товара и (или) особенностей его поставки, свидетельствует о том, что положения ОУП СССР – КНР не имеют абсолютно императивный характер. В одном из решений МКАС при ТПП РФ исходил из диспозитивного характера ОУП СССР – КНР, ссылаясь на преамбулу этого документа (см. [12]) 5.
Кроме того, следует учитывать, что ОУП СССР – КНР были разработаны для применения в условиях плановой, а не рыночной экономики, когда государство занимало фактически монопольное положение в сфере двусторонних торговых отношений между Российской Федерацией и КНР. После либерализации внешней торговли существенно изменился не только состав участников внешнеэкономической деятельности, главенствующая роль среди которых принадлежит частным субъектам, но и ее условия, так как значительно расширились пределы автономии воли сторон, и контрагенты по своему усмотрению определяют условия взаимовыгодного сотрудничества. Однако, несмотря на неприемлемость формалистского подхода, следует согласиться с М.Г. Розенбергом в том, что вопрос о том, применимы ли ОУП СССР – КНР при отсутствии соглашения сторон, когда одна из них возражает против их применения, требует дополнительного изучения (см. [21, с. 385– 386]), а право сторон договора отступить от положений ОУП СССР – КНР необходимо определять посредством анализа соответствующих положений (см. [21, с. 20; 6, с. 26 (автор комментария М.Г. Розенберг)].
Учитывая неоднозначные подходы к применению ОУП СССР – КНР, во избежание разногласий в ходе реализации внешнеэкономической сделки и большей предсказуемости при разрешении споров, российским и китайским предприятиям можно рекомендовать при заключении договора международной купли-продажи товаров, в зависи- мости от того, на что направлена их воля, либо прямо указывать на применение к их отношениям ОУП СССР – КНР, или включать в договор оговорку об исключении применения ОУП СССР – КНР и (или) Венской конвенции полностью или частично.
Включение в договор поставки оговорок относительно применения или неприменения ОУП СССР – КНР, диспозитивность и факультативность которых оценивается по-разному, повышает вероятность того, что правоприменитель примет во внимание прямо выраженную волю сторон и разрешит тот или иной вопрос на основании материально-правовых норм, применение которых стороны согласовали.
В отсутствие соглашения сторон об исключении применения ОУП СССР – КНР и при условии, что МКАС при ТПП РФ или российский государственный суд будет исходить из обязательности и диспозитивности ОУП СССР – КНР , а не факультативности, отношения из договора международной купли-продажи товаров, заключенного между российским и китайским предприятиями, в той части, в которой иное не предусмотрено договором, будут регулироваться материальными нормами ОУП СССР – КНР, которые имеют приоритет в отношении положений Венской конвенции. В остальной части, не урегулированной договором и нормами ОУП СССР – КНР, будут применяться положения Венской конвенции, если стороны не исключат ее применение полностью или частично.
Если же компетентный орган будет придерживаться позиции о факультативном характере ОУП СССР – КНР, то этот документ будет применен только при наличии соглашения сторон о его применении к договору.
Поскольку в ОУП СССР – КНР и Венской конвенции урегулированы не все вопросы, касающиеся договоров международной купли-продажи товаров, вопросы, не разрешенные в названных международных договорах, будут в любом случае регулироваться материальными нормами подлежащего применению права, которое определяется в соответствии с нормами международного частного права на основании соглашения сторон о применимом праве, а в его отсутствие – на основании применимых коллизионных норм.
Список литературы Право, подлежащее применению к договору международной купли-продажи товаров между российскими и китайскими предприятиями: опыт МКАС при ТПП РФ и российских государственных судов
- Протокол об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР: подписан в городе Пекине 13 марта 1990 года. Доступ из информационного банка «Международное право».
- Крупко С. И. Процессуальные вопросы урегулирования споров, возникающих из договоров поставки между российскими и китайскими организациями: опыт МКАС при ТПП РФ // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 6 (213). С. 61-67.
- Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в городе Нью-Йорке 10 июня 1958 года). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Rudolph H. Kaufrecht der Export-Importvetraege. Kommentierung des UN-Uebereinkommens ueber internationale Warenkaufvertraege mit Hinweisen fuer die Vetragspraxis. Freiburg (Breisgau); Berlin: Haufe. 1. Auflage. 1996. 567 c.
- Juris PraxisKommentar BGB Band 6 - Internationales Privatrecht - UN-Kaufrecht (CISG) UN-Kaufrecht (CISG). 7. Auflage. 2014. Online-Kommentar. 1802 S. URL: http: https://www.beck-online.de