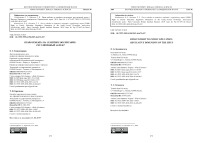Право ребенка на семейное воспитание: регулятивный аспект
Автор: Комиссарова Е.Г., Краснова Т.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 4 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: авторы обращаются к теоретико-методологическим проблемам осуществления права родителей на воспитание несовершеннолетнего. Теоретическим посылом для выбора темы статьи послужила неадаптированность правовой теории семейного воспитания к исследованию традиционных семейных ценностей и отношениям позитивного родительства. Отсюда не слишком заметное место юриспруденции в междисциплинарном учении о семейном воспитании. Ориентируясь на необходимость создания внутри семейно-правовой теории отдельного научного направления о положении несовершеннолетнего ребенка в частном праве, авторы обращаются к проблеме осуществления родительного права на воспитание ребенка в регулятивном аспекте, задаваясь вопросами о семейном воспитании как социальном феномене и его соотношении с общественным воспитанием; о субъектах и участниках семейного воспитания, о личном неимущественном субъективном праве родителей на воспитание несовершеннолетнего. Цель: проведение научно-теоретического анализа имеющихся в семейном законодательстве конструкций юридически возможного и юридически необходимого поведения родителей и лиц, их заменяющих, по поводу семейного воспитания несовершеннолетнего. Методы: общенаучный (диалектический); частнонаучные методы познания: формально-юридический, логический. Основополагающим подходом стал междисциплинарный подход, выраженный в учении о модернизации семьи в изменяющемся мире. Результаты: мнимая очевидность повседневного семейного воспитания и недостаточная воспитательная представленность теории семейного воспитания в юриспруденции образуют причины того положения, при котором позитивные аспекты семейного воспитания, как правило, остаются за пределами доктринального внимания, обеспечивая негласно больший простор тематике охранительной с ее деструктивными и девиантными явлениями в семейном воспитании. Для преодоления сложившегося научного положения авторы предлагают считать актуальной частью семейно-правовой теории такой ее раздел, как положение несовершеннолетнего в семейном праве. Пока эта теория существует лишь умозрительно, а потому фрагментарно. Начальным этапом ее формализации может стать изменение систематики норм, заключенных в главы 11 и 12 Семейного кодекса РФ. Опираясь на теоретико-методологический посыл, позволяющий получить ответ на вопросы о том, что, как и зачем должны делать правоведы, представляя соответствующий научный домен, авторы исследовали порядок осуществления личного неимущественного права на воспитание ребенка и сопутствующий ему признак приоритетности этого права перед другими лицами. По результатам исследования авторами сделаны выводы: об открытости перечня личных неимущественных прав родителей, направленных на воспитание ребенка (права «со знаком плюс»), неделимости, неотчуждаемости и строго личном характере права родителей воспитывать своих детей; о недопустимости отказа родителей от осуществления права на воспитание несовершеннолетнего, о невозможности передачи родительских прав другим лицам. Научную роль своих суждений авторы видят в создании необходимого законодателю теоретического задела для построения развитой, внутренне непротиворечивой системы норм, конструирующих должное взаимодействие субъектов семейного воспитания.
Родительские права, семейное воспитание как институт права, личные неимущественные права родителей, субъекты и участники воспитания, модернизация института семьи в меняющемся мире
Короткий адрес: https://sciup.org/147227599
IDR: 147227599 | УДК: 347.635:37.018 | DOI: 10.17072/1995-4190-2019-46-672-697
Текст научной статьи Право ребенка на семейное воспитание: регулятивный аспект
The research initiative of the authors of the paper seeking to articulate the values of family education of a minor from the standpoint of their regulation in a normal, undisturbed state is one of the few studies over the past decade devoted to family education. Historically, positive aspects of exercising parental right to family education of a child have rarely been a subject of scientific debate. Much more research and theoretical attention has been paid to the common issues of legal regulation for personal non-property relations involving minor children in general and issues related to the topics of safety and security for children’s rights, including the right to family education.
One cannot deny that there are many cases when a family does not function in accordance with democratic forms based on the joint interaction between parents and children aimed at ensuring children’s education. The examples vary from apparently harmless at first glance forms of simplifying the structure of parent-to-child relations, when they are reduced to financial support of the children, separation between the parents and the children and, as a result, lack of parental love and engagement, numerous cases of cultural fragmentation in parental educational behavior towards their minor children, to socially crucial cases of abandoned children, infliction of physical harm, commission of mental and emotional violence against them. However, as was stated more than a century ago by P.F. Kapterev, a founder of the family education theory, teacher and psychologist, ‘one cannot argue against the fact that family education has many flaws in practice; however they can be eliminated and partly mitigated by serious elaboration of educational family issues’ [7, p. 62]. There is no doubt that the positive legal features of educational family issues also need such elaboration. Even earlier, a similar statement was pronounced in the jurisprudence by D.I. Meyer. Studying the essence of the parents-and-children union, the author stated that ‘in human society, not all phenomena are normal, there are also ugly deviations from the norm, and in case of such deviations, definitions of positive law are needed that would, if feasible, support the phenomena in their normal form’ [12, p. 758].
Meanwhile, a survey of legal publications on family education reveals that contemporary research topics have significantly adhered to substitutive education. The list of such studies is extensive. What they all have in common is systematization of unfavorable family education causes, the grounds and procedures for administrative and judicial proceedings, the choice of forms for protection of a child’s rights to family education, and питание, организационные формы замены утраченного семейного воспитания. На этом фоне траектория правового познания семейного воспитания в позитивном, ценностном и гуманитарном ключе оказалась негармонично краткой. Следствием этого является непропорциональность правовых исследований позитивного родительства с его благополучным семейным воспитанием и исследований охранительной тематики. Не без этого в любой детско-родительской тематике оказываются на «поверхности» отлаженный еще в советское время охранительный механизм для решения проблем неблагополучных семей, неся за собой не самый позитивный эффект в виде создания представлений о том, что семейное неблагополучие - это ординарное, а не экстраординарное явление.
Отсюда жанровые особенности в исследовании правовой тематики семейного воспитания. Научные суждения о нем в его социально-одобряемом ключе выполняют роль заставки к соответствующему исследованию, а далее раскрываются вопросы защиты и ответственности. Олимпом научных суждений в воспитательноправовой тематике стали вопросы фостерного (англ, «foster» - выхаживать, воспитывать) воспитания, представляющего собой профессиональную семью, воспитывающую ребенка на основании контракта с государственным учреждением, и отличающегося от других форм устройства детей временным характером и договорным способом оформления отношений. На эти своеобразные подходы к семейноправовой тематике воспитания несовершеннолетнего указала А. М. Нечаева, справедливо заметив, что в науке все время идет смешение проблем общего плана с вопросами сугубо процессуальными [15, с. 64].
На фоне такого смешения научный простор регулятивно-диспозитивной тематики семейного воспитания в ее содержательном наполнении выглядит ограниченным и не в полной мере актуальным. Обнаруживается несоответствие между новыми законодательными идеями о том, что субъективные родительские права, как и субъективное право ребенка на семейное воспитание, стали социально-правовой ценностью. Еще чуть- чуть и недалеко до впечатления, что ни законодателю, ни науке тема счастливого ребенка, воспитанного в естественной семье, не интересна, а ресурсы государ ственного воспитания, вопреки статье 39 Конституции РФ и пункту 4 статьи 65 СК РФ, - это только для детей, попавших в «воспитательную беду».
Инерция ширящейся охранительной тематики с ее тенденцией усиления административных начал в семейно-правовом регулирований с опорой на один из социологических подходов, названного кризисом семьи, достаточна сильна. Вряд ли она скоро ослабнет в пользу другого социологического подхода, не очень жалуемого правом, именуемого модернизацией семьи в современном мире.
У подхода «кризис семьи», обозначенного в доктрине семейного права как «стрессовое или судьбоносное состояние семьи» (Ю. Ф. Беспалов, 2019), на который опираются ученые при исследовании проблем семейного воспитания, есть серьезная поддержка в виде сознательной идеологизации социального родительства. В XXI веке эта безусловно гуманная идея не только получила видимую политико-идеологическую маркировку, но и обрела широкую вариативность возможных юридических форм «квазиродительства» и полуюриди-ческих (детские деревни). Оснований отрицать значимость охранительной тематики в семейном воспитании, конечно, нет. Как нет и повода смешивать «до неразличимости» регулятивные и охранительные аспекты семейного воспитания. При такой методологии можно получить то следствие, которое в итоге выльется в явную «неопределенность стратегического типа» (Н. Н. Тарусина, 2017) в позитивных правовых вопросах семейного воспитания.
Реально существующий весьма невысокий теоретический задел темы позитивного родительского воспитания оказывается лишенным того потенциала, который способен стать катализатором для других соприкасающихся с ней тематик. В числе таковых - доктринальный вопрос о договорном саморегулировании в отдельных вопросах семейного воспитания, о правовом статусе агентов семейного воспитания, полузабытой временной опеке. Последняя как демократичный, но весьма не оперативный институт добровольной родительской подмены не афиширован и не тематизирован в доктрине семейного права и неоправданно мало используется в реальной практике семейного воспитания.
Komissarova E. G., Krasnova T. V. organizational forms of substitution for the lost family education. Against this background, the path of legal study of family education in its positive, axiological, and humanitarian aspects was inharmoniously short. It resulted in disproportionate legal research on positive parenthood with its favorable family education and survey on the topics of protection. In a way, any child-and-parent subject matter has a protective mechanism on its ‘surface’ that was well-established back in the Soviet times to solve problems of dysfunctional families, which made the effect far from positive, represented in the idea that unfavorable family was an ordinary rather than extraordinary phenomenon.
Hence come the genre features in the study of family education legal topics. Scientific judgments about it in its socially approved manner serve as a title screen for the relevant research, and further security and responsibility issues are discussed in detail. The issues of foster education represented by professional family raising a child based on a contract concluded with a state institution, which has a difference from other forms of child placement in its temporary nature and in a contractual way of relations, have been summited on the Olympus of academic judgments in educational legal studies. These particular approaches to the family law topics of juvenile education were highlighted by A. M. Nechaeva. She adequately outlined that common issues have been constantly mixing all the time with purely procedural issues in science [15, p. 64].
Against the background of this mixture, the scientific scope of regulatory and dispositive topics of family education in its substantive content looks constrained and not fully relevant. There has been revealed a discrepancy between the new legislative ideas that parental rights, as well as a child’s right to family education, have become a social legal value. One is quite close to have an impression that neither legislation nor science is interested in the topic of a happy child brought up in a ‘natural family’ and that the resources of state education, contrary to Article 39 of the Constitution of the Russian Federation and Clause 4 of Article 65 of the
Family Code of the Russian Federation (hereinafter - RF Family Code), are only applicable to children who got into an ‘educational trouble’.
The momentum of the extensively developed security topic trending to reinforce administrative principles in family law regulations relying on one of the sociological approaches caused by the family crisis is strong enough. It is unlikely to weaken in the near future in favor of another sociological approach, which is not quite preferred by law, called family modernization in today’s world.
The ‘family crisis’ approach determined in the family law doctrine as ‘stressful or fateful state of a family’ (Yu. F. Bespalov, 2019), which the scholars use as basis in their studies of the family education issues, has serious support in the form of deliberately ideologically charged social parenthood. In the 21st century, this unconditionally humane idea not only gained a visible political and ideological labeling but also reached wide variability of potential legal forms of ‘quasi-parenthood’ and semi-legal representations (Children’s Villages). There is definitely no reason to deny the importance of security topics in family education nor there is a reason to indistinguishably confuse the regulatory and protective dimensions of family education. Using this methodology can ultimately result in a clear ‘strategic uncertainty’ (N. N. Ta-rusina, 2017) in the positive legal issues of family education.
Relevant but rather modest theoretical groundwork for the topic of positive parenting is in fact devoid of the capacity that could potentially turn into a catalyst for other associated topics. Among these are the doctrinal issue on contractual self-regulation in certain matters of family education, on the legal status of family education agents, and half-bygone interim custody concept. The latter, as a democratic though not quite practical institution of voluntary parental substitution, is neither advertised nor discussed as a topic in the doctrine of family law and is unreasonably little used in the actual family education practice.
Свои научные суждения по теме статьи авторы основывают на убеждении в том, что предпонимание того, как надлежит воспитывать детей в замещающих семьях, исходит не от правил, составленных органами опеки и попечительства, как это принято считать, не из договора, опосредующего передачу ребенка в замещающую семью, и не из одних лишь рекомендаций психологов. Это предпонимание на самом деле свое начало и сущность полагает в канонах естественного родительского воспитания, в его регулятивных правилах, естественно «впитавших» в свое содержание и защитные механизмы. Эта та ценность, которая лежит в основе всех форм семейного воспитания. На схожесть воспитательного процесса в родительской семье и опекунских семьях указывается как в международно-правовых актах, предписывающих равенство разнообразных моделей семейных правоотношений, так и в национальных актах конституционной юрисдикции.
Авторы стремятся развить и усилить влияние на науку семейного права той мысли, что, несмотря на привязку семейного воспитания к биологической или юридической (при усыновлении) личности родителя, отделяющей этот вид воспитания от профессионального, социальные посылы и критерии этих видов семейного воспитания едины. Это интересы «слабой» стороны - ребенка, которому необходимы любовь и забота. Эти самые интересы «должны оставаться главенствующими для всех, кто хотел бы развивать науку семейного права и семейное законодательство» [14, с. 379].
Настоящая статья - о нормальных отношениях по воспитанию «слабой» стороны, чье семейное окружение не поражено неблагополучием. Отсюда предмет статьи составляют обычные позитивные отношения по семейному воспитанию, в рамках которых реализуется «утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство», однако нередко «недооцениваемое и продешевляемое» [6, с. 231] повседневное искусство семейно-правового воспитания ребенка.
Уходя за пределы привычного «статистического» понятия «семья - ячейка общества», авторы отталкиваются в своих научных суждениях от объемной, общезначимой и одной из приоритетных социальных идей о том, что се мья - это «точка роста нового человека», важнейший жизнеустроительный институт с его внутренней системой отношений членов семьи как отдельных личностей: супружеских, детских и родительских. Вслед за законодателем детско-родительские отношения презюмируются средоточием добра, родительской любви, заботы и позитивного личного взаимодействия, развивающего навыки и умения несовершеннолетнего, качество которых обеспечивает становление его личности.
Наряду с тематикой благотворности семейного воспитания, берущей свое начало не только в педагогике и психологии, но и в праве, авторы исследуют вопросы соотношения семейного воспитания с общественным, реализуемым в иных социальных группах, и обращаются к правилам родительской культуры в тех ее аспектах, которые способны к правовому оформлению. Той культуры, социальная значимость которой для современного общества с его развитием и модернизацией, наряду с такими его не менее актуальными видами общественной культуры, как политическая, финансовая, образовательная, медицинская, бесспорна.
Необходимо сделать одно очень важное замечание относительно избранной тематики и авторского подхода к ней.
Как известно, классическое представление о научной проблеме в той или иной области юриспруденции обычно связывается с появлением логического противоречия в области одной и той же юридической теории либо с исследованием конкретного теоретического или фактического актуального вопроса. Однако проблемный характер исследования - это далеко не всегда, как это традиционно принято считать, исследование исключительно актуального и злободневного. Нередко проблема есть там, где пришло время очистить систему научных взглядов от сложившихся стереотипов, необоснованно задвинувших в глубь других проблем на самом деле актуально значимую проблематику, либо просто подвергнуть разграничению привычно смешиваемые правовые явления. Не без сожаления приходится констатировать, что в не очень объемной, по современным меркам, регулятивной тематике семейного воспитания несовершеннолетнего все это присутствует. Отсюда стремление авторов выстроить внутренне непротиворечивую систему из имеющихся на-
The authors’ research judgments on the topic discussed herein are supported by the belief that pre-understanding of how to raise children in foster families does not originate from the rules issued by the guardianship authorities, as conventionally believed, nor from the contract mediating the child transfer into a foster family, nor just from the recommendations of psychologists. This pre-understanding essentially originates from the ‘canons’ of natural parenting, in its regulative provisions, which naturally ‘absorbed’ security mechanisms in its content. This is the value that constitutes the core of all family education forms. The similarity of educational process in a parental family and guardian families is highlighted both in international legal acts, prescribing the equality of various models of family legal relations, and in internal acts under constitutional jurisdiction.
The authors endeavor to develop and reinforce the influence on the family law study of the idea that despite family education is associated with biological or legal (in case of adoption) personality of a parent, which distinguishes this type of education from professional, the social messages and the criteria of these types of family education are common. This is the focus on the ‘weak’ party - a child who needs love and care. This focus ‘should remain dominant for everyone who intends to develop the academic and legal issues associated with family law’ [14, p. 379].
This paper deals with normal relations in education of the ‘weak’ party whose family environment is not affected by dysfunction. Hence, the research scope of the article covers usual positive relations in the framework of family education where ‘the most refined, noblest, and most responsible’, however often ‘underestimated and depreciated’, art of the family legal education of a child is exercised on a daily basis [6, p. 231].
Going beyond the conventional ‘statistic’ concept of a family as a ‘nucleus of the social structure’, the authors base their judgments on the extensive, generally valid and one of the priority social ideas that family is a ‘growth point for a new person’ and the most important life-building institution with its internal system of matrimonial, child, and parental relations between the family members being separate individuals. Following the legislation, parent-and-child relations are presumed to be the concentration of kindness, parental love, care, and positive personal interaction developing the skills and abilities of a minor, and the quality of these skills ensures his personal identity.
Together with the topic of beneficial effects of family education, originating not only from pedagogy and psychology but also from law, the authors herein study the relation between family education and social education implemented in other social groups and refer to the rules of parental culture in those dimensions that can be legally formulated. This is the culture, which social significance for the contemporary society that has been developed and improved along with such equally relevant types of social culture as politics, economics, education, and medicine, is undeniable.
It is necessary to state one quite important reservation regarding the chosen topics and the authors’ approach.
As is well known, the classical understanding of a scientific concern (issue) in a particular area of jurisprudence is usually associated either with a logical contradiction revealed within one legal theory or with the study of a specific theoretic or actual issue. However, the challenging nature of the study, as conventionally believed, is not in studying exclusively pertinent and timely issues themselves. A problem often arises where there is an urgent need to free the system of scientific views from the established stereotypes that have unreasonably pushed relevant issues into the depths of other matters, or just to distinguish between the customary confused legal phenomena. Regretfully, we have to admit that all the above exists in quite a narrow (by modern standards) regulatory topic of family education of a minor. It explains the authors’ desire to develop an internally учных понятий и наличных правовых институтов, конструирующих взаимодействие субъектов семейного правоотношения по поводу воспитания ребенка через понятия об общественновозможном и общественно-необходимом поведении родителей.
Семейное воспитание несовершеннолетнего как социальный и правовой феномен
Относительная юридическая молодость вопроса о семейном воспитании, пришедшего на смену преимущественно государственному воспитанию, еще не позволила охватить и теоретически развить все его тонкости. Их на самом деле немало. Некоторые из них авторы настоящей статьи постараются охватить, найдя им научно-теоретическое и законотворческое обоснование. Однако прежде затронем вопрос о научных подходах к исследованию правовых вопросов семейного воспитания.
Содержательных характеристик такого исследовательского феномена, как «подход», в юриспруденции не так много из-за презумпции его философской принадлежности. Для целей настоящей статьи определим подход как некую методологическую ценность в виде той научной точки зрения (теории), с которой рассматривается подлежащий исследованию объект. В нашем случае это позитивные семейные правоотношения, возникающие при осуществлении родительских прав по воспитанию несовершеннолетнего. Следование тому или иному подходу позволяет определять стратегию проводимого исследования в границах заявленного предмета и руководить ею.
Поскольку вычленить те или иные подходы с позиций семейно-правовой науки не представляется возможным, авторы настоящей статьи опираются на подходы, сформулированные на межотраслевом уровне. Одним из многочисленных подходов (ценностный, деятельностный, системно-структурный, теории конфликтов и др.) этого уровня является функциональный подход, служащий стратегическим направлением для исследования воспитательной функции семьи. При таком подходе семья исследуется как социальный институт с использованием понятий «функция семьи в социуме», «успешность и благополучие семьи», «интерес ребенка». Другой подход, именуемый теорией семейного кризиса, основное внимание фокусирует на дезинтеграции семейных отношений и связанных с этим последствий для членов семьи. Должные, устоявшиеся и новые виды семейно-правовых отношений исследуются в рамках теории модернизации семьи в современном мире.
Как показывает обзор юридических публикаций, посвященных исследованию отношений по воспитанию несовершеннолетнего, в качестве поименованного, а чаще «по умолчанию», наиболее интенсивно, в сравнении с другими подходами, используется теория кризиса семьи. Не без этого, даже в публикациях по правовой тематике семейного воспитания с вполне позитивным названием, идет погружение в организационные аспекты форм подменного воспитания. В итоге истинно воспитательная представленность современного семейного законодательства не выглядит полной, поскольку как таковому семейному воспитанию, основанному на родительских началах и признанному самостоятельным правовым явлением, места не остается.
Обращаясь к правовым проблемам семейного воспитания, авторы кладут в основу функциональный подход и теорию модернизации семьи в современном мире. Основу юридической методологии составил формальнодогматический метод исследования существующих в праве нормативных установлений.
Право ребенка на семейное воспитание, родительство, родительский приоритет, родительская культура - это новые научные категории, вошедшие в междисциплинарный научный оборот сравнительно недавно - в начале 90-х годов XIX в. благодаря П. Ф. Каптереву, впервые поставившему вопрос о семейном воспитании как самостоятельном предметно-научном направлении.
В юриспруденцию теория семейного воспитания вошла вслед за педагогической (теория воспитания) и социологической (теория семьи и семейных отношений). Сегодня эти науки активно развивают различные теории семейного воспитания, отмечая, что семейное воспитание - это систематическое целенаправленное воздействие на ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада [4, с. 544]. Их теории вполне адаптированы к новым условиям функцио- consistent system out of the existing scientific concepts and available legal institutions that would construct the interaction between the parties in legal family relations regarding the child education through the concepts of socially required and socially acceptable behavior of parents.
Family Education of a Minor as a Social and Legal Phenomenon
There are not so many substantive features of ‘approach’ as a research phenomenon in the legal studies due to the assumption of its philosophical attribution. For the purposes hereof, we define the approach as a certain methodological value in the form of scientific view (theory) used as a perspective to study the discussed object. In our case, it is represented by the positive family legal relations when the parental rights to educate a minor are exercised. Following one or the other approach allows us to establish the strategy of the study within the declared subject matter and control it.
Since there is no way to distinguish particular approaches in terms of family law studies, the authors herein rely on the ones formulated at the multidiscipline level. One of the numerous approaches (value-focused, activity-focused, systematic and structural, conflict theory, etc.) of this level is the functional approach, which serves as a strategic direction for the study of the family educational function. This approach regards family as a social institution, using the concepts ‘family function in society’, ‘family prosperity and welfare’, and ‘child-friendly behavior’. Another approach, called
‘the theory of family crisis’, focuses on disintegration of family relations and the relevant consequences for family members. Proper, well-established, and new types of legal family relations are studied in the framework of the family upgrade (modernization) theory in the contemporary world.
Based on the survey of legal literature devoted to the study of relations in the upbringing of minors, the family crisis theory is used most intensively and often by default, for the above purposes compared to the other approaches. Even family education legal publications with quite a positive name, in a way, discuss the organizational aspects of substitutional education forms. As a result, the truly educational representation of the current family law does not look complete, since there is no place for family education based on parental principles and understood as an independent legal phenomenon.
Dealing with the legal issues of family education, we take the functional approach and the theory of family modernization in the contemporary world as a basis. The basis of the legal methodology is the formal dogmatic method of research for the existing legal regulations.
The child’s right to a family education, parenthood, parental priority, parental culture are the relatively new scientific categories that have entered the cross-disciplinary scientific application just a while ago in the early 90s of the 20th by the efforts of P. F. Kapterev, who first dealt with the issue of family education as an independent scientific and research movement.
The theory of family education entered jurisprudence after well-established pedagogical (theory of education) and sociological (theory of family and family relations) theories. Today, these sciences actively pursue the development of various family education theories, noting that family education is a systematic targeted action on a child by adult family members and family environment [4, p. 544]. Their theories are quite adapted to the new environment of the society function, and new нирования общества, а новые идеи о создании воспитательной среды, об антицелях семейного воспитания в условиях модернизации института семьи и сопряженных с ним подсистемах подают научные сигналы правоведению. Но, как показывает анализ текущего правового экскурса, эти сигналы пока не стали катализаторами для создания в праве цельных позитивных теорий семейного воспитания с опорой на уже предложенные законодателем юридические сущности, которые бы способны были реагировать на непростое настоящее и будущее в вопросах семейного воспитания.
Более того, как оказалось, междисциплинарный характер тематики семейного воспитания явился даже неким тормозом для активного научного обращения правоведов к тематике семейного воспитания в его позитивном ключе, оставив это занятие педагогике, социологии и психологии.
В разные исторические периоды цели воспитания в семье разнились: от дореволюционного «развития страха Божьего, покорности родителям, церкви и властям» [13, с. 238] до послереволюционного осознания того, что каждый ребенок имеет право на свободное развитие всех заложенных в нем сил, способностей и дарований, т. е. право на воспитание и образование, сообразно с его индивидуальностью [2, с. 17]. Будучи соединенной с идеей приоритета общественного воспитания и с жестким контролем со стороны государства над «ячейкой общества», последняя идея просуществовала до 90-х годов XX столетия. После через конституционные установления, берущие свое начало еще от Декларации прав ребенка 1959 года (ч. 2 ст. 25)1, была активирована наднациональная и национальная идеология о построении семейно-правовых норм о воспитании несовершеннолетнего на равных отцовско-материнских началах, обусловив появление в нем соответствующих юридических конструкций.
Относительная новизна юридической тематики семейного воспитания, с учетом изменения ее идейных ориентиров, и ее фактологи- ческие особенности изначально обеспечили ей устойчивый маркер уникальности. На «замкнутость и неуловимость» семейных правоотношений указывал Г. Ф. Шершеневич, отмечая при этом, что уникальность прав и обязанностей родителей по воспитанию детей состоит в сочетании частного интереса, связанного с удовлетворением потребности иметь детей, и публичной заинтересованности государства в воспитании новых членов общества [23, с. 573]. Д. И. Мейер указывал на общий характер этого понятия, «чье юридическое содержание теряется: нередко одно пребывание дитяти при родителях выдается за воспитание, и юридически против этого нечего возразить, потому что, пожалуй, и это также воспитание» [12, с. 749]. Эту юридическую парность, сочетающую в себе частное и публичное, в полной мере воплотили современное конституционное и семейное законодательства, провозгласив свободу в реализации родительского права на воспитание ребенка и его приоритет, с одновременной заинтересованностью развитого правопорядка в безупречном следовании авторитету семейного воспитания и соблюдении прав и интересов детей.
Собственные критерии уникальности вычленяет постсоветская наука семейного права, вынужденная иметь дело с более сложными формами и конструкциями выражения отношений по семейному воспитанию. Один из таких критериев связан с тем, что современная семья на всех междисциплинарных уровнях воспринимается сегодня в качестве «агента социализации» (А. М. Рабец, 2015).
Фактором, предопределяющим уникальность сегодняшних детско-родительских отношений по воспитанию, наряду с их качествами дуалистичности и «неуловимости», стало признание того положения, при котором ребенок, вне зависимости от его возрастной периодизации, - это лицо. Он уже не часть домохозяйства, основанного на родительской власти, и не объект «пассивной родительской заботы» (Л. М. Пчелинцева, 2004), а лицо статусное, его личность отдельна от личности родителей.
Как отмечено в педагогической науке, «по своему существу любая система семейного воспитания есть не что иное, как проявление субъективности родителя в ее понимании и реализации» [11, с. 175]. Свою роль в этой ideas about creating an educational environment, and anti-goals of family education under modernization of the family institution and its associated subsystems, emit research signals to the science of law. However, as the analysis of the current law overview shows, these signals have not yet become catalysts for creating consistent positive family education theories in law supported by legal substances already proposed by legislation that would be able to react to the challenging present and future on the issues of family education.
Moreover, the cross-disciplinary nature of the family education topic resulted in some recession of the active scientific discussion on this topic by legal experts in its positive sense, leaving this work to pedagogy, sociology, and psychology.
Throughout history, the goals of parenting in a family varied from the pre-revolutionary ‘cultivation of fear of the Lord, submission to parents, the church, and the authorities’ [13, p. 238] up to the post-revolutionary understanding that every child has the right to free development of all capacities, abilities, and talents resided in him, i.e., the right to upbringing and education fitting his personality [2, p. 17]. The latter idea existed until the 1990s of the 20th in combination with the idea of the public education priority and strict control by the state over the ‘nucleus of society’. Subsequently, a supranational and national ideology was activated through constitutional provisions dating back to the 1959 Declaration of the Rights of the Child (Part 2 Article 25),1 to develop family legal rules for education of a minor on equal paternal and maternal basis, which resulted in relevant legal constructions.
The relative novelty of the family education legal topic, considering the changes in its ideological guidelines and its factual features, firmly marked it as unique. G. F. Shershenevich pointed to the ‘isolation and elusiveness’ of family legal relations, also highlighting that the unique nature of parental rights and obligations to raise a child consists in the combination of private interest related to satisfaction of the need for having children and public focus of the state on raising new members of society [23, p. 573]. D. I. Meyer noted the general nature of this concept ‘which is losing its legal content. It is often that just a child’s stay with parents is disguised as education, and there is nothing to object to this legally because it might be quite educative too’ [12, p. 749]. This legally paired relationship combining the private and the public has been fully represented in the current constitutional and family laws, proclaiming freedom in exercising parental right to raise a child and its priority, together with the developed system of justice focused on irreproachable adherence to the authority of family education and respecting rights and interests of children.
The post-Soviet family law studies were forced to deal with more complex forms and structures of representing relations in family education, identifies its own criteria of uniqueness. One of these criteria is related to the fact that contemporary family is perceived today as an ‘agent of socialization’ at all cross-disciplinary levels (A. M. Rabets, 2015).
A driver that predetermines the uniqueness of today’s parent-and-child relations in education, together with their dualism and ‘elusiveness’, is recognition of the situation where a child is a personality regardless of their age. A child is no longer a part of household based on parental authority nor is an object of ‘passive parental care’ (L.M. Pchelintseva, 2004) but an individual of some status, and their personality is separate from the personality of their parents.
As noted in pedagogic studies, ‘essentially, any system of family education is nothing more than a manifestation of a parent’s subjective understanding of the system and its implementation’ [11, p. 175]. Customs, traditions, morality, parenting субъективности выполняют обычаи, традиции, мораль, стили воспитания и родительские культуры как явления, лежащие за пределами права. А если учесть, что процесс воспитания в семье осуществляется в рамках ежедневного и систематического быта, реализуемого совместно детьми и родителями, и состоит из сплошь фактических действий и взаимодействий, то можно вообще усомниться в том, что праву в этом процессе есть собственное место, кроме как охранять и защищать. На самом деле это, конечно, не так. И право отыскало приемлемые для цивилизованного общества способы примирения фактического и регулятивноюридического в вопросах семейного воспитания. Для этого оно «искусственно учредило» (К. П. Победоносцев) необходимые юридические формы, в рамках которых сегодня существует право ребенка на семейное воспитание. Первые нормы о правах и обязанностях родителей по воспитанию своих детей были сформулированы в главе 8 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г.1 в виде утверждения о том, что «родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и обучении, готовить к общественно-полезному труду, растить достойными членами социалистического общества». С точки зрения юридико-технической данная норма мало отличалась от статьи 173 Свода законов Российской империи, согласно которой «родители должны обращать все свое внимание на нравственное образование своих детей и стараться своим домашним воспитанием приготовить нравы их и содействовать видам правительства». Но начало юридического оформления прав и обязанностей родителей по воспитанию своих детей в советском законодательстве было положено. Преемником этих норм с более разнообразной юридической терминологией стал Семейный кодекс РФ 1996 г. Его формулировки позволили семейно-правовой науке вычленить основополагающие понятия сферы семейного воспитания в целях создания правовой теории семейного воспитания (А. М. Нечаева, Ю. Ф. Беспалов, А. М. Рабец, Е. А. Татаринцева, Н. Темникова). В числе таких понятий: «родительский статус», «статус ребенка», «семейные правоотношения», «субъективные права ребенка», «приори- тет родительского воспитания», «личные неимущественные права и обязанности родителей по воспитанию детей», «порядок осуществления субъективных родительских прав». Опора на этот правовой инструментарий позволяет как законодателю, так и науке конструировать модели социально одобряемого, полезного поведения воспитателя в отношении воспитуемо-го, влиять на естественные намерения родителей, в том числе блокировать их реализацию при наличии для этого законных оснований.
Задача современного правоведения - помочь законодателю в этом состоявшемся примирении права и факта в вопросах семейного воспитания через теоретическую шлифовку тех юридических сущностей, которые избраны законодателем для привнесения в отношения по семейному воспитанию необходимых императивов и диспозитивов. Как будет показано далее, в этом институте сегодня есть как инструментальные, так и технико-юридические проблемы.
Исследуя наличный категориальный ряд института семейного воспитания, надлежит задаться вопросом о целесообразности (или отсутствии таковой) введения в текст СК РФ такого правового понятия, как «семейное воспитание». Вопрос непростой и неоднозначный. Его решение затрудняют не слишком высокие терминологические достижения в области семейной педагогики как части педагогической науки. Как отмечают представители этих наук, здесь понятие «семейное воспитание» характеризуется критериальным многообразием, терминологической размытостью и противоречивостью, что обусловлено его концептуальной неопределенностью [22, с. 89].
В попытке предложить законодателю то или иное решение возьмем за основу исходное понятие «воспитание», данное в трудах классиков отечественной педагогики, где воспитание, как педагогическое явление, без исторических «примесей» и современного следа глобализации определено через «формирование человека как личности; осуществляемое непрерывно по всем направлениям жизнедеятельности, с участием взрослых в процессах развития, взросления и социализации детей [7, с. 57].
Четыре пункта приведенной дефиниции способны послужить праву в его объективном значении: ребенок - это личность и личность styles, and parental cultures as phenomena that stay outside the law contribute to subjectivity. Moreover, given the fact that the process of parenting proceeds as part of routine and systematic way of life jointly implemented by children and parents and entirely consists of actual actions and interactions, one could generally question whether the law has some role in this process at all, except for security and protection. Obviously, this is not the case. And the law found ways of reconciling the factual and regulatory in matters of family education that are acceptable to a civilized society. To this end, it ‘artificially established’ (by K.P. Pobedonostsev) the necessary legal forms, which made frames for the child right to a family education today. The first rules on the parental rights and obligations in raising their children were formulated in Chapter 8 of the Soviet Marriage and Family Code 19691. It stated that ‘parents are obliged to raise their children, take care of their physical development, and education, prepare them for labor beneficial to the society, and raise them as worthy members of the socialist society’. From the technical-legal point of view, these rules were very little different from Article 173 of the Code of Laws of the Russian Empire where it was stipulated that ‘Parents have to pay all their attention to the moral education of their children, and try to condition their manners, and assist the governments through their home education’. Nonetheless, legal framing of the parental rights and obligations to raise their children was initiated in the Soviet law. The Family Code of the Russian Federation of 1996 became the successor of these rules with a more diverse legal terminology. Its formulations allowed family law studies to determine the fundamental concepts of the family education in order to generate a legal theory of family education (A. M. Nechaeva, Yu. F. Bespalov, A. M. Rabets, E. A. Tatarintseva, N. Temnikova). Among such concepts are ‘parental status’, ‘status of a child’, ‘family legal relations’, ‘rights of a child’, ‘priority of parental upbringing’,
‘personal non-property parental rights and obligations in raising children’, ‘procedure for exercising parental rights’. Support of this legal toolkit allows both the legislation and science to construct models of socially approved, beneficial behavior of an educator in relation to an educatee, to influence the natural intentions of parents, particularly, blocking their actions if any legal grounds emerge.
The objective of contemporary legal studies is to help the legislation in this reconciliation of law and reality in the matters of family education through theoretical ‘polishing’ of those legal entities that are chosen by the legislation to introduce the necessary compulsions and transparencies into family education relations. As discussed below, this institution today has both tooling and technical-legal problems.
Exploring the available system of categories of the family education institution, one should question if it is advisable or not to introduce a concept as family education into the text of the RF Family Code. The question is quite complicated and ambiguous. Some difficulty in solving this issue is added by rather limited terminology achievements in the field of family pedagogy as part of pedagogical studies. As discussed by representatives of these studies, the concept of ‘family education’ herein is described through the criterial diversity, vague terminology, and inconsistency due to its conceptual uncertainty [22, p. 89].
In the attempt to propose some solution for the legislator, we will take as a basis the original concept ‘education’ given by the classics of Russian pedagogy, where education, as a pedagogical phenomenon without any historical ‘additions’ and a contemporary trace of globalization, is defined through ‘the continuous molding of personality across all areas of life with participation of adults in the processes of development, growing up and socialization of children’ [7, p. 57].
Four points of the given definition can contribute to the objective meaning of the right: a child is an independent personality and an самостоятельная (1); воспитательное воздействие на личность ребенка предполагает непрерывность (2); оно осуществляется по всем направлениям, вбирая в себя физическую, нравственную, интеллектуальную составляющую (3); воспитательное воздействие исходит от взрослых (семья, общественные институты, ориентированные на воспитание, обучение и развитие ребенка) (4).
Законодательные представления о воспитании ребенка и семейном воспитании также вполне совпадают с педагогическими и социологическими представлениями о том, что «отношения “родители - дети” составляют сердце-вину семейной жизни» (А. И. Антонов, 1992). Вопрос лишь в том, насколько точно и полно юридический язык передает эти внеправовые каноны семейного воспитания.
Первый содержательный компонент понятия «воспитание» связан с ребенком и его личностью. Эта идея, как мы уже отмечали ранее, для современного законодателя новаторская. Международно-правовое упоминание о ребенке как личности связано с принятием 30 сентября 1990 г. на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей1. Одна из идей Декларации - в обеспечении всем детям возможности определить себя как личность и реализовать свои возможности в безопасных и благоприятных условиях в среде семьи или попечителей, обеспечивающих их благополучие.
Вслед за международно-правовыми актами в нормы семейного законодательства внесено правовое понятие «ребенок - это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (и. 1 ст. 54 СК РФ), отдельно отстоящая от родителей правовая личность, у которой есть право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, на их заботу, на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ч. 2 ст. 54 СК). Эту достигнутую определенность правового статуса несовершеннолетнего следует обозначить в Общих положениях СК РФ, так как эта аксиома значима не только для целей воспитания ребенка, но и при определении его имущественного статуса в семье, а также и для пони- мания других конструкций и институтов, где задействован ребенок. Сегодня в структуре пункта 1 статьи 1 СК РФ явно недостает конструктивного, декларативного и принципиального положения о том, что «ребенок - это личность, которой настоящим кодексом гарантированы права».
Подобный подход к демонстрации личностного начала в несовершеннолетнем не только коррелирует с пониманием личности в психологии, где личность - это «социальное, надприродное в человеке» (Выготский Л. С., 1983), но и соответствует учению о семейном правоотношении с его содержательной структурой, которая неизменно включает такие ключевые для права понятия, как «субъекты», «объекты», «субъективные права и обязанности».
Второй компонент семейного воспитания -воспитательное воздействие на ребенка. Для права он связан с определенностью и достаточностью родительских прав и обязанностей в этой сфере. Иного юриспруденции, не способной мыслить педагогическим языком стилей (моделей, видов, систем, стратегий, концепций) семейного воспитания и не опирающейся на родительские чувства и родительскую позицию с их семейными ожиданиями, не дано. Наиболее предметно к юридическим сущностям, именуемым субъективные родительские права на воспитание ребенка, и порядку их осуществления авторы обратятся в самостоятельном подразделе настоящей статьи.
Третий содержательный компонент семейного воспитания состоит в том, что воспитательное воздействие на личность ребенка осуществляется по всем направлениям, вбирая в себя физическую, нравственную, интеллектуальную, социальную составляющие. Для права это также вопрос о перечне юридических прав и обязанностей, которые наполняют юридический статус родителя как воспитателя.
Вопрос о том, каким по содержанию должен быть перечень родительских прав и обязанностей и должен ли он быть исчерпывающим в законе, в науке семейного права не относится к бесспорным. Одни авторы полагают, что в законе не должно быть детально урегулированных конструктов родительских прав, так как каждый родитель воспитывают ребенка по-своему. Не вмешиваясь в этот сугубо индивидуальный процесс, законодатель устанавливает individual (1), the educational effect on a child’s personality implies continuity (2); education should be provided in all directions, incorporating the physical, moral, and intellectual component (3), the educational activity is initiated by adults (family, social institutions focused on upbringing, teaching, and development of a child) (4).
Legislative ideas about raising a child and family education also completely coincide with pedagogical and sociological understanding that ‘parent-and-child relations are the core of family life’ (A. I. Antonov, 1992). The only question is how accurately and fully the legal language conveys these extra-legal canons of family education.
The first substantial component of the concept of ‘education’ is associated with a child and their personality. This idea, as we discussed earlier, is innovative for the contemporary legislation. Reference to a child as an individual (personality) in international legal sources is associated with the adoption of the World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children on September 30, 1990 at the 45th Session of the UN General Assembly1. One of the ideas of the Declaration is to enable all children to identify their personality and achieve their potential in a safe and supportive environment of a family or guardians to ensure their welfare.
Subsequent to the international legal acts, the following legal concept was introduced into the family legislation rules: ‘a child is a person under the age of eighteen (majority) (Clause 1, Article 54 of the RF Family Code), a legally secured person separated from his parents who has the right to live and be raised within a family, to the maximum degree possible, to know his parents, to receive care from his parents, to live together with them, except for the cases when this contradicts his best interests (Part 2 of Article 54 of the Family Code). This achieved certainty of the legal status of a minor should be outlined in the General Provisions of the RF Family Code, since this axiom is significant not only for the purpose of raising a child but also in determining their property status within a family, as well as for understanding other structures and institutions where a child is involved. In the current structure of Clause 1, Article 1 of the RF Family Code, there is an obvious need for a constructive, declarative, and principled provision that ‘the child is a personality who has the rights guaranteed by the Code’.
A similar approach to demonstration of the personality-based essence in a minor not only correlates with understanding of the personality in psychology where a personality is ‘something social, non-naturally occurring in a person’ (L.S. Vygotsky, 1983) but also corresponds to the doctrine of family legal relations with its substantial structure, which invariably includes such key concepts of law as subjects, objects, rights and obligations.
The second component of family education is the educational effect on a child. In terms of law, it is associated with certainty and sufficiency of parental rights and obligations in this area. There is no other way for jurisprudence, which is not able to speak the pedagogical language of family education styles (models, types, systems, strategies, concepts) and which does not rely on parental feelings and parental position with their family expectations. The legal instances referred to as parental rights to raise a child and the procedure for their implementation will be discussed in a separate subsection herein in more specific substantive way.
The third substantial component of family education is that the educational effect on personality of a child touches all directions, incorporating the physical, moral, intellectual, and social constituents. In terms of law, it is also a matter of a list of legal rights and obligations that provide the legal status of a parent in the role of educator.
The question of what content the list of parental rights and obligations should have and whether it should be comprehensive in law is not deemed indisputable in the family law studies. Some authors believe that the law should not stipulate parental rights in detail, since each parent raises a child in their own way. The legislation should set пределы осуществления родительских прав и обязанностей [17, с. 3]. Не все авторы согласны с этой точкой зрения, считая, что «отношения между родителями и детьми должны быть максимально облечены в правовую форму, дабы избежать нарушения прав и интересов как ребенка, так и его родителей» [18, с. 36].
Спор об открытом или закрытом перечне родительских прав и обязанностей не выглядит продуктивным. Причина, как представляется, очевидна. Рассуждая о субъективном праве, мы так или иначе приходим к суждениям о том, что оно «отражает вид и меру возможного поведения» (С. Н. Братусь, 1950). Такое наполнение этого ключевого правового понятия объективно предопределяет тот факт, что субъективное право относится к правовым понятиям «со знаком «плюс» (В. А. Белов, 2011). То есть понятиям положительным, включающим возникновение этого права, его приобретение и расширение. Применительно к личным неимущественным правам родителей это означает появление и других субъективных прав, которые могут возникнуть как расщепление существующих или оказываются преемниками ранее установленных субъективных прав.
В этом контексте более актуальным видится обращение к проблеме «россыпи» или неак-кумулированности уже признанных правом статусных родительских прав, относящихся к такому правовому явлению, как семейное воспитание. Речь идет о тех правах (и обязанностях) родителей, которые по причине их предполагаемой отдаленности от непосредственного процесса воспитания фактически выпали из поля зрения семейно-правовой науки.
В связи с этим обратимся к систематике норм, заключенных в главах И и 12 СК РФ о правах несовершеннолетних детей и правах и обязанностях родителей. При всей «продвинутое™» норм, каталогизирующих права несовершеннолетних детей, с указанием базового, основополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ), а следом прав и обязанностей родителей, включая их права и обязанности по воспитанию (ст. 63 СК РФ), не просматривается тот факт, что детско-родительское взаимодействие - это в первую очередь личное неимущественное отношение. Многословность, терминологическая неотто-ченность и непоследовательность статьи 63 СК
РФ, заключающей в себе идеи семейного воспитания, очевидны. Вместо прав и обязанностей по воспитанию норма фактически манифестирует положения об ответственности родителей и их воспитательном приоритете перед другими лицами. Дополнение этих норм общеизвестными международно-правовыми нормами не меняет общесмысловой нормативной картины, из которой воспитательный сегмент фактически выпал.
Неопределенность правовой терминологии в детско-родительских отношениях не миновала и другие страны. Так, в английском праве до принятия Акта о детях 1989 г. в законах использовались термины «родительские права и обязанности», «родительская власть и обязанности», «права и власть» родителей. При разработке Акта о детях было предложено перейти к концепции «родительского обязательства» [26, р. 330]. Как отражено в современной доктрине, это изменяет акценты родительского воспитания, поскольку «родительское обязательство как институт существует к пользе ребенка, а не взрослого» [25, р. 333]. Необходимые акценты на то, что право ребенка на заботу и связь родителя с ребенком - это естественное право родителя, делает и немецкая доктрина, не забывая указать, что «право это неизменно сопровождается и возложением обязанностей» [24, S. 216].
Произошедшие во всех европейских странах терминологические изменения стали трансляцией законодательных достижений Германии и Норвегии, отошедших от родительской власти и сместивших акцент в сторону родительской заботы. Рекомендуя другим членам Европейского союза принятие аналогичных норм, Совет Европы в своих рекомендациях 1984 г. указал, что термин «обязательства» лучше описывает современный подход, согласно которому родителям поручено (буквально - «дано задание») воспитывать, законно представлять интересы, поддерживать / обслуживать и т. и. их детей. Для этого у них есть возможности действовать в интересах детей, а не потому, что им предоставлена власть для реализации собственных интересов [26, р. 331].
Законодательная картина юридически оформленных прав и обязанностей родителей, составляющих институт семейного воспитания, должна быть единой, исключающей рассогла- the limits of parental rights and obligations without interfering in this highly individual process [17, p. 3]. Not all the authors share this point of view, thinking that ‘relations between parents and children have to be framed in legal form as much as possible in order to avoid violation of the rights and interests of both the child and their parents’ [18, p. 36].
A dispute over an open or closed list of parental rights and obligations does not look efficient. The reason seems to be obvious. Discussing a right this or that way results in the judgment that it ‘reflects the type and measure of potential behavior’ (S. N. Bratus, 1950). The content of this key legal concept objectively predetermines the fact that a right refers to legal concepts ‘preceded with the ‘plus’ symbol’ (V. A. Belov, 2011). That is a ‘positive’ concept including the origin of this right, its acquisition, and expansion. In relation to personal non-property rights of parents, this also means other rights, which may originate from the split of existing ones or be the ‘successors’ of previously established rights.
In this context, it appears more relevant to address the problem of ‘scattering’ or insufficient accumulation of the already recognized by law status parental rights related to the legal phenomenon of family. It is about those parental rights (and obligations) that have been practically omitted in family law studies for the reason that they are presumably too far from the direct process of education.
Hence, let us refer to the system of rules contained in Chapters 11 and 12 of the RF Family Code on the rights of minor children and the parental rights and obligations. There are ‘advanced’ rules that make up a list of rights of minor children providing for the basic fundamental right of the child to live and be raised within a family (Article 54 of the RF Family Code), followed by the parental rights and obligations, including their educational rights and obligations (Article 63 of the RF Family Code). However, the fact is not evident whether child-and-parent interaction is a personal non-property relationship. Terminological ambiguity and inconsistency of Article 63 of the RF Family Code that covers the ideas of family education are obvious. Instead of educational rights and obligations, the rule actually manifests the provisions on responsibility of parents and their educational priority among other persons. The fact that these rules are supplemented with the other well-known international legal standards does not change the general regulative picture that actually omits educational segment.
Uncertainty of legal terminology in parent-and-child relations has not bypassed other countries as well. For example, in English law, before the adoption of the Children Act 1989, the terms ‘parental rights and duties’, ‘parental authority and duties’, and ‘rights and power’ of parents had been used in the laws. When the Children Act was under development, it was proposed to switch to the concept of ‘parental obligation’ [26, p. 330]. As reflected by contemporary doctrine, this changes the focuses of parenting, since ‘parental obligation as an institution exists for the benefit of a child but not an adult’ [25, p. 333]. The imperative emphasis on the fact that the right of the child to care and the relationship between parent and child are the natural parental rights is made by the German doctrine, with the addition that ‘this right is invariably accompanied by the assignment of duties’ [24, p. 216].
Terminological changes that have occurred in all European countries have actually been a translation of the legislative achievements in Germany and Norway, which moved the parental authority aside and shifted their focus to parental care. Encouraging other members of the European Union to adopt similar standards, the Council of Europe in its Recommendations 1984 stated that the term ‘obligations’ better described the modern approach following which the parents were instructed (literally, ‘assigned with a task’) to educate, legally represent interests, support/satisfy the needs of etc. their children. To do this, they have the opportunity to act in the favor of children, but not because they have been given power to realize their own interests [26, p. 331].
The legislative picture of the legally framed parental rights and obligations (duties) making up the institution of family education should be uniform, eliminating any inconsistency between pa- сованность между нормами в части родительских прав и обязанностей и нормами других отраслей права.
Как представляется, систематика раздела 4 СК РФ «Права и обязанности родителей и детей» требует самостоятельного доктринального внимания. Как минимум, надлежит задуматься о наличии в его структуре главы «Общие положения», дающей возможность закрепить не только само понятие «семейное воспитание», но и его принципы. В качестве ведущего принципа семейного воспитания допустимо рассматривать принцип приоритетной заботы о личности ребенка, его жизни и здоровье. Отдельная глава раздела может быть посвящена воспитанию детей, включая положения о взаимодействии воспитуемых и воспитателей через права и обязанности последних.
Вопрос о правильном логическом распределении структуры нормативного материала, относящегося к осуществлению родительских прав, имеет множество позитивных следствий: пользователям он обеспечивает доступность и необходимые ориентиры в осуществлении их собственных родительских прав, правоприменителю - понимание законодательного смысла соответствующего семейно-правового института и достаточность применяемых норм; хранителям детских прав на семейное воспитание -известность и определенность нормативной опоры и ее основополагающих аксиом.
Названные вопросы относятся к техникоюридической составляющей семейного законодательства и требуют отдельного внимания. Не следует ожидать детальной «росписи» правил семейного воспитания (домашнего или семейно-домашнего) в законодательстве. Потому что речь идет о личных неимущественных правах, тех правах которые тесно связаны с личностью самого биологического или юридического родителя, его личными представлениями о стилях воспитания, порядке и дисциплине в семье и в семейных отношениях. Собственно, в этом и состоит одна из причин указания в законе на то, что «родители свободны в выборе средств и методов воспитания».
Четвертый компонент педагогического понятия «семейное воспитание» и его отражение в праве - воспитательное воздействие исходит от взрослых (семья, общественные институты). Доктринальные идеи, относящиеся к этому пункту, будут раскрыты в отдельном подразделе настоящей статьи.
Подводя итог исследованию вопроса о правовой форме семейного воспитания, авторы полагают уместным дать ему нормативное определение с учетом тех социальных установок, которые даны в программных документах1, но в контексте правовых долженствований. Его наличие в нормах СК РФ - это не только знак причастности права к поддержанию традиционной семьи, но и факт афиширования семейного воспитания как самостоятельной правовой ценности и установки на согласованное соотношение норм СК РФ о воспитании с иными нормативными актами, принятыми позднее. Одним из таких актов является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»2. В нем под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.3 понятие «воспитание» раскрыто через развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Наличие «воспитательных формулировок» и упоминание о воспитательных функциях в иных нормах права - свидетельство того, что понятие «семейное воспитание» относится к понятиям видовым. Утверждение о том, что «семейное воспитание - это часть воспитания в целом» (Ю. Ф. Беспалов, 2013), уже было высказано в науке. Тем самым обеспечивается трансляция того, что общественная жизнь rental rights and obligations, and rules of other branches of law.
Apparently, the systematics of Section 4 of the RF Family Code ‘The Rights and Obligations of Parents and Children’ requires independent doctrinal discussion. At least, consideration should be taken to include the Chapter of General Provisions in the structure that would make it possible to enshrine not only the concept of ‘family education’ but also its principles. It is acceptable to consider the principle of priority care for the child’s personality, their life, and health as the guiding principle of family education. A separate chapter of the Section may be devoted to the children education, including provisions on interaction of the educatee and educators through the rights and obligations of the latter.
The issue of the correct logical distribution of the structure of regulatory material related to exercising parental rights has many positive effects. For example, it provides the users with availability and necessary guidelines in exercising their own parental rights, the law enforcement officer - with understanding of legislative meaning of the relevant family law institution and the sufficiency of the applicable rules; the custodians of children’s rights to family education - with availability and certainty of the normative support and its fundamental axioms.
These issues relate to the technical legal component of family law and require specific consideration. One should not expect a detailed list with the rules of family education (home or family household) in the legislation. Because we are discussing personal non-property rights, those rights that are closely related to personality of the biological or legal parent, their personal ideas about parenting styles, order and discipline in the family and family relationships. Actually, this is one of the reasons why the law stipulates that ‘parents are free to choose the means and methods of education’.
The fourth point of the substantive essence of the pedagogical concept of ‘family education’ and its representations in the law is that educational impact comes from adults (family and public insti tutions). Doctrinal ideas related to this point will be disclosed in a separate subsection herein.
Summarizing the study of the legal form of family education, the authors deem it appropriate to give it a normative definition considering those social guidelines that are given in the program documents1, but in the context of legal obligations. The fact that it is included in the rules of the RF Family Code not only shows the involvement of law in the support a traditional family but also the promotion of family education as an independent legal value and maintaining a consistent ratio between the RF Family Code norms on education and other normative acts adopted later. Among these acts is the Federal Law dated December 29, 2012 No. 273 ‘On Education’2. It understands education as ‘activity aimed at developing a personality, creating environment for self-identity and socialization of the educatee based on social and cultural, spiritual and moral values, and socially accepted rules and norms of behavior for the human, family, society, and the state benefit’. In the Education Development Strategy in the Russian Federation up to 2025, 3the concept of ‘education’ is defined through the development of a highly moral personality who shares Russian traditional spiritual values, has relevant knowledge and skills, capable to fulfil their potential in the contemporary society, ready to make peace and protect their homeland’.
The presence of ‘educational wording’ and the mention of educational functions in other rules of law is the evidence that the concept of ‘family education’ refers to specific concepts. The statement that ‘family education is a part of education in general’ (Yu. F. Bespalov, 2013) has already been made in the studies. This conveys the idea включает разные виды воспитания - педагогическое и юридическое, физическое и умственное, групповое и индивидуальное, патриотическое, религиозное и т.д. Вне зависимости от сферы и формы все виды воспитания впитывают в свое содержание то, что образует его сущность - формирование личности несовершеннолетнего. Дальнейшее наполнение понятия «воспитание» зависит от той реальности, в которой происходит этот процесс.
Факт разветвления процесса воспитания в развитом социуме - явление вполне естественное. Подобное утверждение не ставит под сомнение смысл и значение тех норм, чьи право-установления направлены на приоритет родителей в семейном воспитании, и не порождает состояния конкуренции с другим видом воспитания - общественным, участником которого формирующаяся личность неизбежно становится.
Исторически общественное воспитание -это вторая воспитательная ветвь процесса воспитания. В истории сословной России были периоды, когда эта ветвь существовала параллельно с семейным воспитанием, но были и периоды, когда она превалировала. Последнее нашло отражение в Кодексе о браке и семье 1969 г., в котором заявленное «органическое сочетание» семейного и общественного воспитания фактически обернулось приоритетом последнего.
В современном законодательстве много законодательных акцентов, свидетельствующих о реальности идеи приоритета семейного воспитания. Это означает одно - общественное воспитание не является заменой родительскому воспитанию или временным фактом делегирования родителями права на воспитание ребенка общественным институтам. Это самостоятельное социальное явление, имеющее собственные правовые формы.
До принятия Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., впервые в постсоветской истории поднявшей вопрос о субъектах и целях общественного воспитания, оно было уделом уставной деятельности конкретного государственного, муниципального, частного учреждения, индивидуального предпринимателя, а также семьи, принимающей решение о форме, виде, периодичности общественного ухода за ребенком и его общественного воспитания за пределами семьи.
Сегодня государство манифестирует, что наряду с семейным воспитанием как воспитанием детей родителями и их законными представителями есть концепция общественного воспитания, реализация которой - дело не только субъектов общественного воспитания, но и самого государства. Вне зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, выполняющего в том числе воспитательные функции, в политике общественного воспитания оно действует от своего имени, имени и государства и общества.
По понятным причинам семейное и общественное воспитание имеют как сходства, так и различия. Последнее обусловливает методологические особенности в исследовании каждого. Если сходство проистекает из того общего, что вложено в понятие «воспитание» в целом: «вое» - общение, «питание» - обеспечение должного содержания, то разность исходит от субъектов и порядка организации каждого из видов воспитания.
Семья поставляет эмоциональный компонент воспитания - тот, который исходит от конкретной личности родителей или лиц, их заменяющих. В этом причина законодательной квалификации права родителей на воспитание ребенка как личного неимущественного права. Это право, хоть и срочное по времени существования - до совершеннолетия ребенка, является постоянным, т. е. непрерываемым в своем процессе, за исключением оснований, указанных в законе. Оно неотрывно от личности, а значит, не передаваемо другим лицам, также при отсутствии законных оснований. Эта доминирующая связь в семейном воспитании придает неизменное отличие семейному воспитанию от общественного. Последнему присущ рациональный компонент. Оно подвижно, его функции могут переходить от одних субъектов к другим, могут сужаться и расширяться.
Известные различия наблюдаются в целях, принципах, содержании общественного и семейного воспитания. Цели общественного воспитания многогранны и формализованы в учредительных документах (лицензиях) субъектов такого воспитания. Они объективно соответствуют цели образования самого субъекта общественного воспитания, в то время как в семейном воспитании его цель отличается известным субъективизмом.
that social life is based on different types of education: pedagogical and legal, physical and mental, group and individual, patriotic, religious, etc. Regardless of the field and form, all types of education absorb something that ultimately constitutes its essence which consists in ‘molding’ the personality of a minor. Further interpretation of ‘education’ concept depends on the reality where the process flows.
The fact of the education process branching in a mature society is a completely natural phenomenon. This statement does not cast doubt on the meaning and significance of those norms that establish the rights focused on the priority of parents in family education and does not initiate the competitive environment to another type of education, i.e. public education that inevitably involves participation of the person.
Historically, public education is the second branch of the education process. In the history of estate-based Russia, there were periods when this branch existed in parallel with family education, while there were also periods when it prevailed. The latter was reflected in the Code of Marriage and Family 1969, where the declared ‘harmonious combination’ of family and social education actually became the priority of the latter.
In contemporary legislation, there are many legislative highlights that testify to feasibility of the idea of priority of family education. This means only one thing that public education is not a substitute for parenting or a temporary delegation of the right to educate a child to public institutions by parents. This is an independent social phenomenon that is represented in its individual forms.
Before the adoption of the Education Development Strategy in the Russian Federation until 2025, which for the first time focused on the subjects and goals of public education in post-Soviet history, it was part of the statutory activity of a particular state, municipal, or private institution, a sole proprietor, as well as a family that decided on the form, type, frequency of public care of the child and his public education outside the family. Today, the state is manifesting that along with family education understood as rising children by their parents and their legal representatives, there is also a concept of public education, which is the responsibility both of the public education agents and of the state itself. Regardless of the legal and institutional form of a legal entity, which inclusively performs educational functions in the policy of public education, it acts on its own behalf, on behalf of the state and society.
For obvious reasons, family and public education have both similarities and differences. The latter determines methodological features in the study of each of them. While the similarity originates from the general that is implied by the concept of ‘education’: from Latin educere ‘lead out’ where ‘e’ (variant of ел-) means ‘out’ + ducere ‘to lead’, the difference comes from the subjects and organization of each type of education.
The family supplies the emotional component of education, the one that originates from the specific personality of parents or their substitutes. This is the reason for legislative qualification of the parental right to raise a child as a personal nonproperty right. Although this right has the time frames of existence (until a child reaches the age of majority), it is also a permanent one and cannot be interrupted in its process, except for the grounds predetermined by law. It is integral with personality, which means not transferable to any other persons, unless otherwise provided by law. This dominant relation in family education introduces invariable difference to the family education from the public one. The latter contains a rational component. It is mobile, its functions can be transferred from one subject to another, can be either narrowed or expanded.
Certain differences are observed in the goals, principles, content of public and family education. The goals of public education are multifaceted and formalized in the constituent documents (licenses) referred to the subjects of this education. They objectively correspond to the education goal of the public education subjects themselves, while in family education its goal is quite subjective.
Субъекты семейного воспитания: кто они?
Как указано в пункте 1 статьи 18 Конвенции о правах ребенка1, интересы ребенка являются предметом заботы прежде всего его родителей. Эта международно-правовая определенность связана с пониманием того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении. В неполный круг субъектов естественного семейного воспитания включены: родители, законные опекуны, иные члены семьи (и. 2 ст.2 Конвенции) и другие лица, несущие, по закону, ответственность за ребенка (ст. 5 Конвенции).
Российская конституционная норма коррелирует с международной, устанавливая: «Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей» (и. 2 ст. 38 Конституции РФ). Аналогично сформулировано большинство норм Конституций других стран Европы. Так, Конституция Германии с ее приоритетом охраны и защищенности детства гласит: «Забота и воспитание детей являются естественным правом и первейшей обязанностью родителей» (ч. II ст. 6) [9, с. 216]. Весьма щепетильное отношение ирландцев к детям позволило сформулировать соответствующую норму Конституции (ст. 42) сверхутвердительно: «Государство подтверждает, что первым и естественным воспитателем ребенка является семья, и гарантирует уважение к неотъемлемому праву и обязанности родителей в соответствии с их возможностью давать своим детям религиозное, интеллектуальное, физическое и социальное воспитание» [10, с. 812-813].
Как известно, любое определение приоритетов означает постановку и выполнение задач, которые наиболее значимы в первую очередь. Следующий за заявленным приоритетом посыл связан с необходимостью принимать те или иные решения, связанные с приоритетом. Российский законодатель оказался не особенно готовым к последствиям правового закрепления родительского приоритета в воспитании, а потому ограничился фактом его закрепления и установлением того, что позитивные семейные образы применительно к национальной тради- ции семейного воспитания представлены двумя видами: семья, где оба родителя совместно проживают с ребенком; где один из родителей проживает отдельно от ребенка, но законодатель гарантирует ему полноценное осуществление родительских прав.
Без законодательного ответа остался вопрос о том, кто эти «другие лица», перед которыми родители имеют приоритет. Последствия провозглашенного родительского приоритета не нашли своего отражения в структуре заглавного раздела СК РФ «Общие положения» в виде того следствия, что родительский приоритет влечет за собой и приоритет семейного воспитания, и никак не отразились на содержательной стороне и перечневой наполненности родительских прав и обязанностей. Это позволяет утверждать, что идея родительского приоритета оказалась не до конца реализованной законодателем. Пока она выглядит урезанной, а сам подход «мало» - про детей и их семейное воспитание, он больше «про родителей» с их не до конца нормативно развитым приоритетным правом на воспитание ребенка.
Как следствие, ответы на многие вопросы, проистекающие из признанного в наднациональном и национальном праве родительского приоритета, оказалось возможным получить не путем прямого обращения к закону, а с помощью непростых логических заключений и обобщений существующих норм. В небесспорное законодательное положение, в связи с их участием в семейном воспитании, попали бабушки и дедушки.
По этой причине, несмотря на обыденную и, как кажется, правовую общеизвестность возможного ответа на вопрос о том, кто является субъектом семейного воспитания, ответ на него не столь прост. По мнению авторов доктрины, он относится к размытым и неопределенным [21].
Если рассуждать о семейном воспитании исключительно в охранительном аспекте, то ответ о субъектах в общем-то очевиден. Это органы опеки и попечительства и все те формы профессионального (вместо родительского) семейного воспитания, которые стали «потомками» процедурно-административной деятельности этого органа. В аспекте регулятивнодиспозитивном ответ будет умозрительным: родители (биологические и юридические), ба-
Who Are the Subjects of Family Education?
As indicated in Clause 1 of Article 18 of the UN Convention on the Rights of the Child1, the interests of a child are a matter of concern primarily to his parents. This international legal definition is associated with understanding that a child needs to grow up in a family environment for the full and harmonious development of his personality. The scope of subjects of natural family education includes but is not limited to parents, legal guardians, other family members (Clause 2, Article 2 of the Convention), and other persons who are legally responsible for the child (Article 5 of the Convention).
The Russian constitutional standard correlates with the international one establishing that ‘Care for children and their education are equally the right and duty of parents’ (Clause 2, Article 38 of the Constitution of the Russian Federation). Most of the standards of the European Constitutions are formulated in a similar way. For example, the German Constitution, where the childhood safety and protection are of priority, states that ‘caring about children and their upbringing is the natural right of parents and a duty primarily incumbent upon them (Part 2, Article 6) [9, p. 216]. The very scrupulous attitude of the Irish towards children made it possible to formulate the corresponding norm of the Constitution (Article 42): ‘The State acknowledges that the primary and natural educator of the child is the family and guarantees to respect the inalienable right and duty of parents to provide, according to their means, for the religious and moral, intellectual, physical and social education of their children’ [10, pp. 812-813].
As is known, any prioritization means setting and achieving the targets that are essentially most important. The message behind the declared priority it is related to the need to make certain decisions related to it. Russian legislation was not particularly prepared for the consequences of the legalization of parental priority in education, and therefore the legislator confined itself to solely establishing it and making sure that positive family images applicable to the national tradition of family education are represented by the two types: a family where both parents live together with the child; where one of the parents lives separately from the child but the legislation guarantees that they could fully exercise their parental rights.
The only question which still remains open and has no legislative response is ‘who are these ‘other persons’ over whom parents have a priority?’ The consequences of the proclaimed parental priority were not represented in the structure of the main section of the RF Family Code ‘General Provisions’ in the form of the consequence that the parental priority entails the priority of family education and did not affect the substantive aspect and the content of the parental rights and duties listing. This suggests that the idea of parental priority was not fully introduced by the legislation. Thus far, it looks reduced, and the approach itself deals very ‘little’ with children and their family education, it is more ‘about parents’ whose priority right to raise a child has not been completely developed.
As a result, many questions arising from the parental priority recognized in supranational and national law could not be answered just through the direct reference to the law but by means of complex logical conclusions and generalizations of the existing norms. Grandmothers and grandfathers have to be ‘involved’ in the controversial legislative situation because of their contribution in family education.
For this reason, the answer to this question is not that simple even though it is quite ordinary and widely known in the legislation. According to the doctrine, this issue is vague and uncertain [21].
If we look at the family education exclusively in terms of security the answer to the question about the subjects is fairly obvious. These are the guardian and custodian authorities, and all those forms of professional (substituting parental) family education that have become the ‘successors’ of the procedural and administrative activities of these authorities. Regulatory and dispositive dimension of the question results in the speculative answer. The subjects are parents (biological and legal), бушки (дедушки), близкие родственники, совершеннолетние браться и сестры (они же сиб-линги), фактические воспитатели и «неопознанные» правом «другие лица».
По нормам СК РФ, в число безусловных субъектов правоотношений по воспитанию ребенка в семье включают три категории лиц, между которыми могут возникать подобного рода личные неимущественные отношения: 1) члены семьи - супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные; 2) другие родственники; 3) иные лица (ст. 2 СК РФ). При этом последние две категории могут стать участниками указанных правоотношений только в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством.
В зависимости от критериев, на которые ориентируются разные авторы, этот перечень иных или других лиц может оказаться шире или уже: кровная связь, интерес ребенка, совместное проживание с ребенком и участие в его содержании, тесная эмоциональнопсихологическая связь с ребенком, именуемая в практике правоприменения привязанностью ребенка.
На категории «другие лица» надлежит остановиться отдельно, но не для того, чтобы сформировать их потенциальный законодательный перечень, а для того, чтобы увидеть ту возможную законодательную идею, на основе которой он может быть создан.
В педагогике «иные лица» именуются участниками семейного воспитания, в социологии - ближайшим социальным окружением, в праве - «лица, заменяющие родителей» (и. 4 ст. 43 Конституции РФ, и. 1 ст. 56 СК РФ), «другие лица» (и. 1 ст. 63 СК РФ, ч. 2 ст. 148 СК РФ). Оба эти понятия существуют самостийно, а потому их правовое наполнение далеко не однообразно: в одних случаях это законные представители; в других - те или иные лица, которым де факте или по праву присвоен статус лица, заменяющего родителей; в третьих - это лица или органы, на которых возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних детей. В науке семейного права - это «иные лица, выполняющие обязанности по воспитанию ребенка», «субъекты неформализованного родительства» и др.
Наличие «других лиц», имеющих статус участников семейного воспитания, вполне со четается с идеями, выраженными в постановлениях Европейского суда по правам человека, где аргументировано положение о том, что понятие «семейная жизнь» и факт ее признания судом основан на реально существующих в действительности тесных личных связях между ребенком и лицами, его воспитывающими. В контексте международной судебной практики наличие эмоциональных связей между ребенком и лицом, с которым у ребенка установлена такая связь, является основанием для включения такого лица в перечень субъектов правоотношений по воспитанию ребенка в семье, независимо от наличия или отсутствия между ними родственных отношений.
Понятия «другие лица» и «лица, замещающие родителей» неравнозначны по объему. Логическая оценка второго оборота обеспечивает то его понимание, при котором речь идет о лицах, «прошедших» через административный регламент опеки и попечительства и получивших статус законных представителей ребенка. Сложнее с правовым понятием «другие лица». Его вынужденные качества правовой недооформленности и сверхабстрактности позволяют относить данное понятие к числу оценочных. В праве к таковым принято относить те понятия, которые имеют открытую аргументацию. При ином подходе к этому понятию оно выглядит примерно-собирательным с мыслью о том, что ориентиры, заданные Конвенцией о правах ребенка, указавшей, что к числу лиц, с которыми ребенок состоит в семейных связях, относятся родители, законные опекуны и любые другие лица, заботящиеся о ребенке и воспитывающие его (и. 1 ст. 8, ст. 19, 23, 27 Конвенции), российским законодателем освоены недостаточно.
Заметим, что установление логического объема этого понятия, его внутреннего наполнения становится делом судейской дискреции. Проблеме судебного усмотрения в семейноправовой проблематике в науке семейного права уделено свое внимание. Поэтому отдельная «остановка» на этом вопросе не входит в замысел авторов настоящей статьи.
Законодательно незавершенным выглядит вопрос об участии в семейном воспитании бабушек и дедушек. В контексте практики Европейского суда по правам человека - они бесспорные участники семейного воспитания при grandparents, close relatives, adult brothers and sisters (also referred to as siblings), actual educators and ‘other persons’ ‘unidentified’ by law.
According to the Russian Federation Family Code, three categories are included in the number of unconditional subjects of legal relations for raising a child in the family, between whom similar personal non-property relations may arise. These are: 1) family members - spouses, parents and children, adoptive parents and adopted children; 2) other relatives; 3) other persons (Article 2 of the RF Family Code). The latter two categories may become participants in these legal relations only in the cases and to the limits stipulated in the family law.
This list of ‘other persons’ may be wider or narrower depending on the criteria used by various authors as the guideline and may include without limitation blood relations, interest of the child, cohabitation with the child, and participation in the child support, close emotional and psychological relations with the child, referred to as ‘child attachment’ in the law enforcement practice.
The ‘other persons’ are to be discussed separately, however, not in order to formulate their potential legislative list but to see that presumable legislative idea on the basis of which it can be formulated.
In pedagogy, ‘other persons’ are referred to as participants in family education, in sociology as the closest social environment. In law, these are ‘persons substituting parents’ (Clause 4 of Article 43 of the Constitution of the Russian Federation, Clause 1 of Article 56 of the RF Family Code), or ‘other persons’ (Clause 1 of Article 63 of the RF Family Code, Part 2 of Article 148 of the RF Family Code). Both of these concepts are actually self-consistent, and therefore, their legal content is far from uniform: in some cases it covers legal representatives while in the others, these or those persons who are de-facto or legally given the status of a person subsisting parents. In yet other cases, these are persons or bodies in charge of protecting the rights of minor children. In the family law studies, these are ‘other persons fulfilling the duties of raising a child’, ‘subjects of informal parenting’, etc.
The presence of ‘other persons’ in the status of participants in family education is fully compatible with the ideas expressed in the judgments by the European Court of Human Rights reasoning that the concept of ‘family life’ and the fact that it is recognized by the court is based on the real close personal relations between the child and the people raising him. In the context of international judicial practice, the emotional ties between a child and a person with whom the child has established this relations is the basis to include this person in the list of legal subjects raising a child in the family regardless of the fact whether they are relatives or not.
The concepts of ‘other persons’ and ‘persons substituting parents’ are not equal in volume. The logical assessment of the latter provides its understanding, which refers to persons who ‘passed’ through the administrative regulative procedure of the Guardian and Custody system and received the status of legal representatives of the child. The legal concept of ‘other persons’ is not that simple. Due to its involuntary insufficient legal formalization and excessive abstractedness, this concept may be rightly integrated among the estimations. Estimations in law are customary those concepts that are open to reasoning. In the light of the different approach this concept looks near-cumulative with the idea that the guidelines set by the Convention on the Rights of the Child stipulating that the family relations of the child include parents, legal guardians, and any other persons taking care of and raising a child (Clause 1, Article 8, Articles 19, 23, 27 of the Convention) are not well understood by the Russian legislation.
In fact, definition of the logical volume of this concept and its internal content becomes a matter of judicial discretion. Specific attention is paid to the issue of judicial discretion in family law issues in the family law studies. Therefore, a deliberate focus on this issue is not a part of the authors’ intention herein.
Право ребенка на семейное воспитание: регулятивный аспект
Child’s Right to Family Education: Regulative Dimension of the Issue условии соблюдения родительского приоритета. Из национального семейного законодательства, обошедшегося оборотом «право бабушки и дедушки на общение с ребенком», этого не следует. Стиль пункта 1 статьи 67 СК РФ и ее терминологический набор свидетельствуют о том, что норма ориентирована не на позитивные контакты ребенка с бабушками и дедушками, а на спорные случаи, возникающие при отторжении этих лиц от общения с ребенком.
По смыслу норм бабушки и дедушки относятся к «другими родственникам». Социологическая наука многократно обосновала тот факт, что сохранение положительных взаимоотношений со своими родителями и близкими – условие, при котором личность ребенка будет развиваться благополучно. В соответствии со статьей 8 СК РФ Европейской Конвенции о правах ребенка, наличие тесных личных связей между несовершеннолетними внуками и их бабушками и дедушками, которые претендуют на участие в семейных правоотношениях по воспитанию ребенка в семье, является основой для защиты семейной жизни.
Так претендуют или участвуют? Если строго следовать тексту СК РФ, то они участвуют в форме общения. Общение – неотъемлемая часть воспитания. Так почему в условиях провозглашенного родительского приоритета не поименовать их субъектами (участника) семейного воспитания прямо? Да, восприятие прародителями себя в качестве участников семейного воспитания имплицитно. Чаще они видят себя в большей степени «помощниками» родителей. Иногда, действуя от имени родителей или «за» родителей в отношениях с ребенком, они, не подозревая того, направляют весь воспитательный процесс в свое русло, используя для этого «общепринятые или оригинальные способы воспитательного воздействия на внуков и внучек» [20, c. 19]. Все это можно законодательно откорректировать, указав родителей «второго поколения» в качестве субъектов семейного воспитания, в котором границами воспитательной деятельности от имени бабушек и дедушек как «других родственников» будет правило о приоритете родительского воспитания.
Безусловен тот факт, что участие бабушек и дедушек в семейном воспитании – это создание благоприятных условий воспитания, кото- рые только укрепляют права несовершеннолетнего на жизнь и воспитание в условиях семьи, но конструкции, отражающие это участие, должны быть не в одном плоскости с родительским воспитанием, а в состоянии понятной иерархичности.
Родители не только прямые участники семейного воспитания, но и организаторы этого процесса. Им принадлежит право вовлекать в воспитательный процесс других лиц, не связанных семейными узами. Поощряя разные виды личностной активности несовершеннолетнего (интеллектуальной, практической, нравственной, эстетической, социальной), родители вправе вовлекать в этот процесс других лиц, способных оказать им профессиональное содействие. Так в воспитательное пространство входят гувернантки, няни, не ушедшие в глубь веков кормилицы и бонны, репетиторы, семейные тренеры и другие лица, оказывающие услуги родителям в рамках семейного воспитания, чьи социальные, коммуникативные и педагогические компетенции, презюмируются. Означает ли это, что часть родительских прав по воспитанию переходит к другим лицам? В социологии эти действия родителей именуются делегированием родительского труда, что не противоречит внеправовой сущности семейных отношений [8, с. 114]. Что касается правовой сферы, то здесь можно делегировать только права (и обязанности). Относятся ли эти возможности к родительским правам. Если по-другому поставить вопрос, то можно ли эти права расщепить, децентрализовать путем их передачи другим лицам?
Для законодателя стабильность и непрерывность детско-родительских отношений – существенный фактор. Отсюда, по смыслу закона, родительский статус един, неделим и не передаваем. Как следствие, наполнение родительского статуса в первую очередь происходит за счетнаделения личными неимущественными правами. В силу привязки данных прав к личности определенного лица – родителя эти права, а также права и обязанности от них производные не подлежат передаче другим лицам. Российский законодатель, в отличие, например, от французского, не использует для таких случаев термин «делегирование», а также и его синонимы – «передача прав», «переход прав». Логика российского законодателя основана не
The issue of grandparents’ participation in family education also seems legislatively incomplete. In the context of the European Court of Human Rights practices, grandparents are indisputable participants in family education subject to the parental priority. This does not follow from the domestic family law that only claims ‘the right of grandparents to contact a child’. The style in Clause 1 of Article 67 of the RF Family Code and its terminological system show that the norm is not focused on the positive contacts of the child with grandparents but on controversial cases arising from the rejection of these persons from communication with the child.
As implied by the norms, grandparents belong to the ‘other relatives.’ Sociological studies have repeatedly substantiated the fact that maintaining a positive relationship with parents and relatives is a condition for favorable development of the child’s personality. In compliance with Article 8 of the RF Family Code and the European Convention on the Rights of the Child, close personal ties between minor grandchildren and their grandparents, who are intended to participate in family legal relations to raise a child in the family, is the basis for protecting family life.
Are they intended to or do they participate? In strict accordance with the text of the RF Family Code, they participate in the form of communication. Communication is an integral part of education. Thus, why are they not directly referred to as subjects (participants) of family education under the proclaimed parental priority? Indeed, understanding of grandparents as participants in family education is implicitly recognized. It is more often they feel more like parent ‘assistants.’ Sometimes, acting on behalf of the parents or ‘for’ the parents in their relations with the child they, without any suspicion, turn the entire educational process in their own direction, using ‘generally accepted or original methods of educational effect on their grandchildren’ [20, p. 19]. All this can be legislatively corrected by specifying the parents of the ‘second generation’ as subjects of family education where the rule of the parenting priority would con- strain the educational activities of grandparents referred to as ‘other relatives’.
Needless to say that participation of grandparents in family education is the creation of favorable conditions for upbringing that only reinforce the minor’s right to life and upbringing within the family, however the structures representing this participation should not lie in the same plane with parental education but be included in the clear hierarchy.
Parents are not only direct participants in family education but also the initiators of this process. They hold the right to involve other persons in the educational process who are not bonded by family ties. By encouraging different types of personal activity of a minor (intellectual, practical, moral, aesthetic, social) parents have the right to involve other persons in this process who can provide them with professional assistance. Thus, governesses, nannies, nurses and bonnes, tutors, family coaches, and other persons rendering services to parents as part of family education, whose social, communicative, and pedagogical competencies are presumed, enter the educational space. Does it mean that part of the educational parental rights is passed over to other persons? In sociology, these actions of parents are referred to as delegation of parental duties, which does not contradict the extra-legal essence of family relations [8, p. 114]. As for the legal sector, only the rights (and duties) can be delegated here. Do these opportunities relate to parental rights? If question it in a different way, is it possible to split or decentralize these rights by passing them over to other persons?
For the legislator, the stability and continuity of parent-and-child relations is an essential factor. Hence, according to the law, parental status is unique, indivisible and cannot be transferred. As a result, the content of parental status is primarily originates from vesting personal non-property rights. Due to the binding of these rights to the identity (personality) of a certain person, the parent, these rights, as well as the rights and duties derived from these rights, are not subject to trans- на передаче родительских прав другим лицам, а на восприятии этих других лиц «как бы родителями». Поэтому в словоупотреблении используются в основном такие понятия, как «установить опеку (попечительство) над несовершеннолетним», «осуществление прав приемным родителем».
Есть ли смысловая разница в неиспользовании российским законодателем термина «делегирование» для случаев лишения родительских прав, однозначно сказать нельзя. Не исключено, что для целей разграничения регулятивных и охранительных (заместительных) отношений по семейному воспитанию этот термин мог бы оказаться уместным, указывая на случаи критичного публичного вмешательства в отношения по семейному воспитанию.
Понятие «делегирование» в качестве правового в российском законодательстве употребляется нечасто. Сферу его применения предопределяет публичность тех прав и обязанностей, которые подлежат передаче. Например, для обозначения передачи, перекладывания функций (полномочий) одного лица другому лицу. В этой правовой сфере есть также и производное понятие «квазиделегирование», под которым в доктрине понимается «государственное регулирование общественных отношений не через органы власти, а посредством делегирования частным лицам публичных полномочий, позволяющих осуществлять регулирующее воздействие с одновременным предоставлением большей степени самостоятельности, но при условии сохранения государственного контроля за их действиями» [16, с. 102]. Этот случай передачи прав (и обязанностей) от одних лиц к другим, по понятным причинам, к семейно-правовому регулированию не применим.
В области гражданско-правового регулирования в собственном самостоятельном значении используется термин «делегация», обозначает специальный юридический инструмент частного права, с помощью которого обязанность должника в обязательственном правоотношении переходит от одного лица к другому при условии получения на такой переход согласия кредитора. Рефлексия на данную гражданско-правовую конструкцию при передаче родительских прав, носящих личный неимущественный характер, исключена.
Применительно к сфере семейно-правового регулирования делегирование, как правовое понятие, употребляется во французском законодательстве, имея ограниченный спектр действия в виде охвата случаев принудительного изъятия ребенка из семьи. Как императивно закреплено в ГК Франции, «никакой отказ, никакая уступка родительской власти не могут состояться иначе, как по судебному решению» (титул 376).
Российская практика семейно-правового регулирования свидетельствует о другом. Непосредственными субъектами семейного воспитания являются родители или, лица их заменяющие, прародители в лице бабушки и дедушки, фактические субъекты семейного воспитания. Общественное воспитание не является тем институтом, в рамках которого родители могут передать часть своих прав по воспитанию несовершеннолетнего общественным институтам. Эти институты от своего имени и от имени государства дополняют семейное воспитание, обеспечивая совершеннолетнему всестороннее развитие и естественную социализацию. Лица, привлеченные родителями как организаторы процесса семейного воспитания, на основании договорных соглашений - не субъекты семейного воспитания. Их статус, как услугодателей, определен гражданским законодательством.
Субъективное право родителей на семейное воспитание и порядок его осуществления
Как небезосновательно замечено в науке, понятие субъективных прав не является приматом права гражданского, зоной его преференций и суверенности. Они объект комплексного и межотраслевого правового регулирования в любом правопорядке. В этом состоит причина предметного обращения к субъективным правам родителей на воспитание несовершеннолетнего и порядку их осуществления в рамках заявленной авторами темы статьи. Нам представляется, что категория «субъективные права родителей» образует центр всей конструкции семейного воспитания.
Обычно суждения о сущности субъективного права и его осуществлении смешиваются, если только речь не идет о специальном предметном исследовании каждого из этих явлений.
fer to other parties. The Russian legislation unlike, for example, the French one, does not use the term ‘delegation’ for such cases nor does it use its synonyms ‘transfer of rights’ or ‘assignment of rights’. The logic of the Russian legislation is not based on the transfer of parental rights to other persons but on the perception of these other persons as ‘kind of parents’. Therefore, such concepts as ‘establish custody (guardianship) of a minor’, ‘exercise of rights by the adoptive parent’ are mainly used in the discourse.
It cannot be stated unequivocally if there is any semantic difference in the fact that the Russian legislation does not use the term ‘delegation’ for cases of deprivation of parental rights. It is possible that for the purposes of distinguishing between regulatory and protective (substitution) relations in family education, this term might be appropriate in the reference to the cases of critical public interference in the family education relations.
The concept of ‘delegation’ as a legal term in the Russian legislation is not frequently used. The scope of its application is predetermined by the publicity of those rights and duties that are subject to transfer: for example, to indicate the transfer or assignment of functions (responsibilities) from one person to another person. In this legal sphere, there is also a derivative concept of ‘quasi-delegation’ that the doctrine understands as ‘state regulation of social relations not through the authorities but through delegating public powers to public individuals, which allows for the regulatory impact together with a higher degree of independence, however, on the condition that the state maintains control over their actions’ [16, p. 102]. This case of the rights (and obligations) transfer from one person to another, for obvious reasons, is not applicable to family law regulation.
In the field of civil law regulation, the term ‘delegation’ is used in its own independent meaning - as a special legal tool of private law which is used to transfer the debt liabilities from one person to another in the creditor-debtor legal relationship given that the creditor agrees to this transition. Any reinterpretation of this civil structure in the transfer of parental rights that are of personal non-property nature is excluded.
With regard to the sphere of family legal regulation, ‘delegation’ as a legal concept is used in French law with a limited coverage of cases referred to the forced removal of a child from the family. As the French Civil Code imperatively enshrines, ‘neither refusal nor concession of the parental authority can take place, except by a court decision’ (Title 376).
The Russian practice tells a different story. The direct subjects of family education are parents or persons substituting them, ancestors represented by grandparents, and the actual subjects of family education. Public education is not that institution where parents can transfer part of their rights to educate a minor to the public institutions. These institutions supplement family education on their own behalf and on behalf of the state providing the adult with comprehensive development and natural socialization. Persons involved by parents initiating the family education process are not subjects of family education on the basis of contractual agreements. Their status of service providers is defined by civil law.
Parents’ Right to Family Education and the Procedure for Its Implementation
As is reasonably noted in science, the concept of rights is not a primacy of civil law, or an area of its preferences and sovereignty. They are an object of integrated and cross-disciplinary legal regulation in any system of justice. This is the reason for the substantive appeal to the parental rights to raise a minor and the procedure for exercising these rights within the topic hereof. It seems to us that the category of ‘parental rights’ forms the core of the entire structure of family education.
Normally, the judgments about the nature of right and its implementation are mixed, unless it is a question of a specific subject study of each of
Тогда как юридическая абстракция в статике (субъективное семейное право) и эта же абстракция в динамике (осуществление субъективного семейного права) - это разные правовые понятия и явления. Как отмечал В. П. Грибанов, «содержание субъективного права как бы характеризует право в его статистическом состоянии, тогда как осуществление права есть динамический процесс его развития, его реализации» [3, с. 44 ]. Статика позволяет выделить то содержательное, что с субъективным правом тесно связано: возможность, дозволенность, допустимость, наличие пределов. В то время как с осуществлением права начинается его динамика для достижения тех целей, ради которых то или иное субъективное право сконструировано в законодательстве.
Гносеологическим началом в изучении всякого субъективного права является его объективная нормативность, выраженная в международно-правовых, конституционных нормах и, в нашем случае, в нормах семейного законодательства. По этой причине заключенное в норму права то или иное субъективное право было бы неверно рассматривать как самостоятельную правовую норму, видя в ней лишь правовое предписание общего характера.
У субъективного права есть важнейший признак - это вторичное правовое явление в сопоставлении с объективным правом. Последнее как бы закладывает в свое содержание программы индивидуального поведения участников общественных отношений, которые на стадии осуществления права начинают работать. В этой нормативности заключена функциональная составляющая субъективного права: если объективное право представляет собой модель возможного, необходимого и должного поведения определенного круга субъектов, то субъективное право - это модель допустимого поведения конкретного лица.
В силу идеального характера объективного права, отражающего желаемое, социально-одобряемое обществом и государством поведение, субъекты семейного воспитания, наделяемые субъективными правами на воспитание ребенка, также задуманы в качестве идеальных образов, опосредующих ту их роль, которую родительство в цивилизованном обществе выполняет. Составляющими этого образа являются способности, культура, нравственность, гу манность, любовь, толерантность, терпеливость, умение заботиться и способность взаимодействовать с ребенком как с отдельной личностью, разумность поставленных ими целей и ценностей воспитания, добросовестность, заботливость, осмотрительность, признание и уважение прав других лиц. С учетом личностного характера прав и обязанностей родителей по воспитанию многое оказывается во власти морали, нравственности, добросовестного отношения родителей к своим правам и обязанностям, родительской культуры, стиля родительского воспитания и вида семейного уклада.
Все эти интегральные понятия в той или иной мере определяют характер семейного воспитания. И в этом существенное качество всей сферы семейно-правового регулирования в отличие, например, от права гражданского. В последнем, даже с введением принципа добросовестности (и. 3, 4 ст. 1 ГК РФ) как всеобъемлющего начала регулирования любых гражданско-правовых отношений и одновременно позитивной обязанности для всех участников гражданских отношений, «по умолчанию» действует правило: «когда говорит право, нравственность молчит» [1, с 80]. На практике это означает, что поведенческие границы осуществления субъективных гражданских прав строго очерчены нормами объективного права (шикана, обход закона, заведомо недобросовестное поведение лица при осуществлении гражданских прав). В семейном праве, кроме сугубо юридических запретов в виде ненарушимости прав, свобод и законных интересов других лиц (абз. 2 и. 1 ст. 7 СК РФ) и запрета на причинение вреда физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию (абз. 2 и. 1 ст. 65 СК РФ), существуют и зафиксированные морально-нравственные запреты в виде недопущения грубости, пренебрежения, жестокости, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации детей. Пределы в отношении осуществления отдельных родительских прав могут устанавливаться в специальных нормах. Так, свобода выбора имени ребенку родителями ограничена пунктом 2 статьи 58 СК РФ, установившей границы, за которые не следует заходить: «не допускается использование цифр, буквенноцифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за ис- these phenomena. Whereas the abstract juridical concepts in statics (family right) and the same abstraction in dynamics (implementation of the family right) are different legal concepts and phenomena. As noted by V. P. Gribanov, ‘the content of a right seems to characterize it in its static state, while exercising the right is a dynamic process of its development or implementation’ [3, p. 44]. Statics let us highlight the content that is closely related to a right: ability, permissibility, admissibility limits. While exercising the right initiates its dynamics to reach those goals for which a particular right is ‘designed’ in law.
The epistemological source in the study of any right is its objective normativity expressed in international legal, constitutional norms and, in our case, in the norms of family law. For this reason, any right enshrined in the rule of law would be incorrectly regarded as an independent legal norm, taken only as a legal prescription of a general nature.
The right has an important feature: it is a secondary legal phenomenon compared to law. The latter seems to incorporate the programs of individual behavior of the participants in social relations which start working at the phase of the right implementation. This normativity contains the functional component of the right. While law is a model of the potential, necessary, and proper behavior of a certain circle of subjects, the right is a model of the acceptable behavior of a particular person.
Due to the ideal nature of the objective right representing the desired behavior socially approved by the society and the state, the family education subjects endowed with rights to raise a child are also conceived as ideal images that mediate the role that parenthood plays in a civilized society. The components of this image are the ability, culture, morality, humanity, love, tolerance, patience, the ability to take care and the ability to interact with the child as a separate personality, the rationality of their goals and educational values, good faith, care, prudence, recognition and respect for the rights of others. Considering the personal nature of the rights and obligations of parents in education, much is in the grip of morality, ethics, the conscientious attitude of parents to their rights and obligations, parental culture, the style of parenting, and the type of family structure.
All these integral concepts determine the nature of family education to some extent. Moreover, this is a significant difference between the whole area of family legal regulation and, for example, civil law. In the latter, even though the good faith principle was introduced (Clauses 3, 4, Article 1 of the Civil Code of the Russian Federation) as a comprehensive origin of regulation for any civil law relations and at the same time a positive obligation for all participants in civil relations, the rule is valid ‘by default’ that ‘when the law speaks, -the morality is silent’ [1, p. 80]. In fact, this means that the behavioral boundaries of exercising the civil rights are strictly outlined by the norms of law (chicane, evasion of law, deliberately unfair behavior of a person exercising civil rights). In family law, in addition to exceptionally legal prohibitions in the form of inviolability of rights, freedoms, and legitimate interests of others (paragraph 2 of Clause 1 of Article 7 of the RF Family Code) and the ban on harming physical and mental health and moral development of children (paragraph 2 of Clause 1 of Article 65 of the RF Family Code), there are also enshrined moral prohibitions in the form of prevention of rudeness, neglect, cruelty, degrading treatment, insulting or exploiting children. The constraints regarding exercising individual parental rights may be established by specific rules. Thus, the freedom of naming a child by parents is limited by Clause 2, Article 58 of the RF Family Code establishing the constraints that must not be violated: ‘the use of numbers, alphanumeric designations, numerals, symbols, and non-letter characters, with the exception of the hyphen, or ключением знака “дефис”, или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143 «Об актах гражданского состояния»1 (далее - Закон об актах), право выбора фамилии ребенку ограничено фамилиями родителей, если у родителей фамилии разные.
Как уже было констатировано, право родителей воспитывать своих детей является личным неимущественным правом. Отсюда такие понятия, как «отказ от права» и «неосуществление права» в проблематике родительских прав, связанных с воспитанием ребенка, имеют особый смысл, в отличие от права гражданского, свободно допускающего как то, так и другое [19, с. 22]. Понятно, что в силу своей родительской природы человек не должен иметь намерений по отказу от таких прав, как право стать родителем, право воспитывать своего ребенка и т. д. Эти права связаны с личностью родителя и, как уже было сказано, они едины, неделимы и неотчуждаемы.
Невозможность отказа от личных неимущественных прав нигде не закреплена, и это создает мировоззренческую иллюзию того, что отказаться от них возможно и передать их другому лицу так же возможно. Ближайший пример: отказ матери от новорожденного ребенка, заявленный в медицинском учреждении. Сугубо юридический подход квалифицирует эти действия не как отказ от личного неимущественного права быть родителем и нести соответствующие правовые последствия в связи с этим статусом, а именно как отказ от ребенка. Ребенок родился, но субъективные родительские права, предусмотренные нормами семейного законодательства, возникают у матери только при условии их государственной регистрации. Следовательно, отказаться от того, что еще не возникло, невозможно. Если же вести речь, например, о возникновении родительских прав у усыновителей, то эти права возникают у усыновителей не вследствие их передачи от родителей, а в связи с тем, что они у родителя (родителей) прекращены или не успели возникнуть (например, в случае смерти роженицы).
В семейном праве отказ от родительских прав может быть только фактическим. Юриди- ческих оснований для этого не установлено. Недолжное осуществление субъективного родительского права или неосуществление права связано с наступлением для родителей охранительных последствий.
Отправными понятиями, которые находятся в одном категориальном ряду и имеют методологическое значение для исследования вопроса об осуществления субъективного права на воспитание ребенка, являются: субъективное семейное право родителей (лиц, их заменяющих на основании закона или договора); личное неимущественное качество этого права; реализация нормы семейного законодательства; содержание субъективного родительского права и его назначение; порядок осуществления субъективного родительского права на воспитание ребенка; принципы осуществления субъективного права. Эти сугубо правовые понятия раскрывают внутренний механизм действий реализации родительского права на воспитание, имея отношение к одному смысловому пространству, именуемому «осуществление субъективных семейных прав и исполнение обязанностей».
Переходя к вопросу об осуществлении родительского права на семейное воспитание, обозначим тот факт, что научная тематика осуществления субъективных родительских прав - не самая актуальная в семейно-правовой науке. Не без этого ей сопутствует то положение, при котором она не в полной мере согласована с фундаментальными учениями о воспитательном взаимодействии в современной педагогической и психологической науках. Оставляет желать лучшего законодательная структура и содержание норм, предназначенных регулировать осуществление личных неимущественных родительских прав. Немногочисленные исследования по теме отрывочны и не сопровождаются концептуальными научно-теоретическими выводами.
Порядок осуществления семейных прав, согласно пункту 1 статьи 7 СК РФ, подчинен праву, морально-нравственным установлениям и свободе их носителей. Ориентируясь на метод семейно-правового регулирования, законодатель вкладывает в их содержание право на индивидуализацию возможностей, образующих содержание конкретного субъективного семейного права, находящего свое отражение в порядке его осуществления, устанавливая, что any combination thereof or swear words, indications of ranks, positions, titles is not acceptable’. According to the Federal Law dated November 15, 1997 No. 143 ‘On Acts of Civil Status’1 (hereinafter - the Law on Acts), the right to choose the second name for a child is limited to the family names of the parents if the parents have different names.
As ascertained above, the right of parents to raise their children is a personal non-property right. Hence, such concepts as ‘waiver of the right’ and ‘non-exercise of the right’ in the issues of parental rights related to raising a child have a specific meaning, in contrast to civil law, freely allowing either one or the other [19, p. 22]. It is obvious that due to the parental nature, a person should not have intentions to waiver such rights as the right to become a parent, the right to raise a child, etc. These rights are connected with the personality of a parent and, as stated above, they are unique, indivisible, and inalienable.
The impossibility to waiver personal nonproperty rights is not enshrined and, this creates a worldview illusion that in fact the waiver is possible, as well as the assignment to any other person. The closest example is the waiver of a mother from the newborn baby signed in a medical institution. An exclusively legal approach qualifies these actions not as a waiver of the personal non-property right to be a parent and bear the corresponding legal consequences in line with this status but namely as child abandonment. Regardless the fact that the child was born, the parental rights stipulated by the norms of family law become effective for the mother only subject to their state registration. Therefore, the waiver of what is not yet valid is impossible. If we discuss, for example, the origination of parental rights for adoptive parents, obtaining these rights by the adoptive parents is not a result of their transfer from the parents but due to the fact that they were terminated by the parent(s) or have not yet become effective (for example, in the case of death of a woman in labor).
In family law, a waiver of parental rights can only be based on facts. There are no legal grounds enshrined for this. The improper exercise of the parental right or the failure to exercise the right is connected with the occurrence of protective consequences for parents.
The input concepts that stand in the same categorical row and have methodological significance for study of the issue of exercising the right to raise a child are: family right of parents (persons substituting them on the basis of law or contract); personal non-property qualification of this right; implementation of family law; the content of parental right and its application; the procedure for exercising the parental right to raise a child; principles of implementation of the subjective right. These exceptionally legal concepts reveal the internal mechanism of actions for the implementation of parental right to education related to one semantic space referred to as ‘the exercise of family rights and duties’.
Moving on to the issue of exercising parental right to family education, it is necessary to note that the scientific topic of exercising the parental rights is not the most relevant in the family law studies. In a way, it is accompanied by the situation in which it is not fully consistent with fundamental teachings on educational interaction in contemporary pedagogical and psychological studies. The legislative structure and content of norms intended to regulate the exercise of personal non-property parental rights leaves much to be desired. Few studies on the topic are fragmentary and not accompanied by conceptual research and theoretical conclusions.
The procedure for exercising family rights, in compliance with Clause 1, Article 7 of the RF Family Code is subordinate to law, moral standards and freedom of their holders. Focusing on the method of family legal regulation, the legislation places in their content the right to individualize opportunities that form the content of a specific family right, which is represented in the procedure
«граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами)». Это означает, что родители свободны в выборе средств и методов воспитания, однако пределы осуществления ими прав ограничены целью воспитания. Наиболее наполнено эти цели провозглашены в Преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности.
Но сфера семейных отношений - это тот вид общественных отношений, в котором в той или иной мере всегда есть напряжение между идеалом и реальным положением дел в силу эмоциональной, нравственной, эмпирической составляющих. Это предопределило наличие в законе нормы, запрещающей родителям в процессе воспитания использовать способы, содержащие пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (абз. 2 и. 1 ст. 65 СК РФ). Однако, имея международно-правовое (ч. 2 ст. 14 Конвенции о правах ребенка) и конституционное начало, эта норма находится в разряде вторичных, несмотря на ее качество конструктивности для других норм о семейном воспитании, в том числе и норм, регулирующих отношения с участием «других лиц, заменяющих родителей». Представляется, что базовая идея этой нормы должна найти отражение в числе заглавных, как минимум, в начальных нормах СК РФ.
Продолжая теоретически реконструировать нормы об осуществлении прав родителей по воспитанию детей, обратим внимание на то, что не все они реалзуются непосредственно в границах родительского правоотношения. Назовем ту категорию прав, которая осуществляется в его границах, основными.
Есть и другая весьма немалочисленная категория родительских прав (обозначим ее условно как производные права), особенностью которых является их осуществление в гражданском правоотношении с участием третьих лиц. В ряду производных возможно различать: 1) права родителей, опосредующие осуществление прав детей; 2) права по защите прав и интересов детей.
Перечень существующих производных родительских прав, опосредующих осуществление прав детей, вполне естественно открывается с права родителей на совместное проживание с ребенком и права доступа к ребенку. Эти права в действительности не права фактического порядка, как это может следовать из семейного законодательства, не упоминающего об этих видах прав.
Право на совместное проживание с ребенком может быть выявлено из норм гражданского законодательства о месте жительства ребенка (ст. 20 ГК РФ). Нам же видится необходимость указания на такое право именно в контексте положений СК РФ, учитывая его значимость для осуществления права на семейное воспитание. Желательно также отразить в СК РФ и придать самостоятельное значение такому личному неимущественному праву родителя, как право доступа к ребенку, где бы он ни находился, с учетом требований, продиктованных спецификой обстоятельств. Этот вид права должен быть интерпретирован в его непосредственном значении, а не в смысле аналогичного термина, используемого в русском переводе Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. (ст. 5)1. De lege ferenda -норма о родительском праве доступа к ребенку будет коррелировать с положением пункта 2 статьи 55 СК РФ (о праве ребенка на общение в экстремальной ситуации), но не ограничиваться только экстремальными ситуациями, а иметь широкое действие.
Постатейный анализ действующего законодательства позволил сформировать перечень и других производных родительских прав, наполняющих такое понятие, как «семейное воспитание». Это права, связанные: с регистрацией рождения ребенка, приобретением (прекращением) им гражданства, индивидуализацией его личности; принятием решения по обучению ребенка религии и вовлечением его в религиозные объединения; решением вопросов медицинского вмешательства в отношении ребенка; образованием ребенка; решением вопроса о вступлении в брак до достижения 16 лет; осуществлением родительских прав несовершеннолетними детьми.
for its implementation establishing that ‘citizens, at their discretion, dispose of their rights arising from family relations (family rights)’. This means that parents are free to choose the means and methods of education, however, the limits of exercising their rights are restricted by the objective of education. These goals are most fully proclaimed in the Preamble of the UN Convention on the Rights of the Child: the child has to be fully prepared to live an individual life in society and brought up in the spirit of ideals such as peace, dignity, tolerance, freedom, equality, and solidarity.
However, the sphere of family relations is that type of social relations in which, to one extent or another, there is always a tension between the ideal and the real state of things due to the emotional, moral, and empirical components. This predetermined the presence of a norm in the law forbidding parents to use methods containing neglect, cruel, rude, degrading treatment, insulting, or exploiting children in the process of education (paragraph 2, Clause 1, Article 65 of the RF Family Code). However, having an international-legal (Part 2, Article 14 of the Convention on the Rights of the Child) and constitutional origin, this norm stands in the category of secondary ones regardless of its feature of constructiveness for other norms on family education, including those regulating relations where ‘other persons’ substituting the parents are involved. As it seems, the basic idea of this norm should be represented among the capital norms, at least in the initial norms of the RF Family Code.
Continuing to theoretically reconstruct the norms regarding implementation of the parental rights to raise children, we are going to pay attention to the fact that not all of them are exercised directly within the boundaries of the parental legal relations. Let us call the category of rights that is exercised within its limits, the basic one.
There is another rather vast category of parental rights (let it be conditionally designated as ‘derivative rights’) featuring their implementation within a civil relationship involving the third parties. The derivative rights may include: 1) the rights of parents mediating the exercise of children’s rights; 2) rights to protect the rights and interests of children.
The list of existing derivative parental rights mediating the exercise of children's rights naturally starts with the right of parents to live together with the child and the right of access to the child. These rights are not actually rights of factual order as may be concluded from the family law that does not mention these types of rights.
The right to live together with a child can be distinguished from the norms of civil legislation on the child’s place of residence (Article 20 of the Civil Code of the Russian Federation). Nevertheless, we see the need for this being mentioned precisely in the context of the provisions of the RF Family Code, considering its significance for the implementation of the right to a family education. It is also advisable to represent in the RF Family Code and attach independent meaning to such personal non-property parental right as the right of access to the child wherever he is, considering the requirements dictated by the specific circumstances. This type of law has to be interpreted in its direct meaning, and not through the meaning of a similar term used in the Russian translated version of the Convention on Civil Aspects of International Child Abduction 1980 (Article 5). ‘‘De lege feren-da’ norm on parental right of access to a child correlates with the provisions of Clause 2 of Article 55 of the RF Family Code (on the right of the child to communication in an extreme situation) but not limited to extreme situations and have widespread application.
The analysis of the current legislation on byarticle basis allows us to make up a list of other derivative parental rights that fill the concept of ‘family’ education. These are rights associated with registration of the child’s birth, acquisition (termination) of his citizenship, individualization of his personality; making decisions on teaching a child religion and involving him in religious associations; addressing issues of medical intervention in relation to the child; child education; addressing the issue of marriage under the age of 16; exercise of parental rights by minor children.
-
1 Bulletin of International Treaties. 2013. No. 1.
Комиссарова Е. Г., Краснова Т. В.
Так, из статьи 14 Закона об актах следует вывод о существовании у родителей права заявлять о рождении ребенка для его государственной регистрации или поручать сделать такое заявление другим лицам, лицу, присутствовавшему при родах (ст. 14), родственнику одного из родителей или иному лицу, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении (п. 2 ст. 16). Если отцовство не установлено, то у матери имеется право заявлять сведения об отце, с указанием любых имени и отчества отца (фамилия в таких случаях указывается по фамилии матери), или отказываться от внесения каких- либо сведений об отце (п. 3 ст. 17). В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»1, родители имеют право заявлять о приобретении и прекращении ребенком гражданства.
Родители решают вопросы индивидуализации личности ребенка путем осуществления личного неимущественного права на выбор ребенку имени по соглашению между ними (п. 2 ст. 18 Закона об актах). В пункту 6 статьи 18 Закона об актах установлена возможность выбора фамилии в соответствии с законом субъекта Российской Федерации (например, в Республике Татарстан ребенку может быть присвоена фамилия, производная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии). Кроме того, у родителей существует право изменить ребенку, не достигшему 14 лет, имя и фамилию, если на это есть разрешение органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 58 Закона об актах, ст. 59 СК РФ). В дополнение к сказанному можно выделить право родителей давать согласие на изменение имени, отчества и фамилии ребенком, достигшим 14 лет (п. 3 ст. 58 Закона об актах).
В статье 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»2 предусмотрено право родителей давать согласие на обучение религии и вовлечение в религиозные объединения своих малолетних детей. Представляется важным не смешивать последнее с правом на воспитание детей. В рамках воспитания может быть рассмотрено непосредственное привитие
-
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22, ст. 2031.
-
2 Там же. 1997. № 39, ст. 4465.
ребенку родителем религиозных взглядов (что можно обозначить понятием «религиозное воспитание»).
Реализация права на получение информации о состоянии здоровья ребенка и права давать информированное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него зависит от требований о возрасте и особых обстоятельствах, перечисленных в пункте 2 статьи 20, пункте 3 статьи 22, пункте 5 статьи 47, пункте 2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3. Оно должно быть преодолимо в случаях, угрожающих жизни ребенка, на что уже обращалось внимание ученых.
Право родителей, известное ранее как «право на образование», недавними изменениями статьи 63 СК РФ было уточнено по содержанию до «права выбора образовательной организации и формы получения детьми образования». Очевидно, что принципиальное решение вопроса о необходимости дать ребенку образование родителям не принадлежит, что оправдано с точки зрения интересов детей и публичного интереса. В отличие от ранее действующих норм о реализации родителями права на образование новые положения статьи 44 Закона об образовании содержат детализацию правомочий родителей в сфере образования.
Второй категорией прав в разряде производных мы видим родительские права по защите прав и интересов детей. В СК РФ отражены права родителей и лиц, их заменяющих, на защиту прав и интересов детей, конкретизированные в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве. В качестве частного случая защиты выступает право требовать их возврата от любого лица, удерживающего ребенка не на основании закона или судебного решения (ст. 68 СК РФ).
Как представляется, такой аспект защиты детей, как решение вопроса о доступе детей к свободно распространяемой информации, в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»4, должен быть прерогативой родите-
-
3 Там же. 2011. № 48, ст. 6724.
-
4 Там же. № 1, ст. 48.
Komissarova E. G., Krasnova T. V.
Thus, from Article 14 of the Law on Acts, it should be concluded that parents have the right to declare the birth of a child for his state registration or to instruct other persons or a person who was present at the birth (Article 14), the relative of one of the parents or another person if the parents do not have the opportunity to personally declare the birth (Clause 2 of Article 16). If paternity is not established, the mother has the right to declare information about the father, indicating any name and patronymic of the father (in such cases the mother’s last name is indicated as the family name) or to refuse filling any information about the father (Clause 3 of Article 17 ). In accordance with Article 25 of the Federal Law dated May 31, 2002 No. 62-FZ ‘On Citizenship in the Russian Federa-tion’,1 parents have the right to declare the child’s acquisition and termination of citizenship.
Parents address the issues of individualization of the child’s personality by exercising their personal non-property right to name the child by agreement between them (Clause 2 of Article 18 of the Law on Acts). Clause 6 of Article 18 of the Law on Acts stipulates the possibility of choosing a family name in accordance with the law of the constituent entity of the Russian Federation (for example, in the Republic of Tatarstan a child may be given a family name derived from the name of the grandfather, both on the paternal and the maternal side). Moreover, parents have the right to change the name and the last name of a child under the age of 14 if there is permission from the Guardianship and Custody Authorities (Clause 4, Article 58 of the Law on Acts, Article 59 of the FR Family Code). In addition to the above, the right of parents to consent to change the name, patronymic, and last name of a child who has reached the age of 14 may be highlighted (Clause 3, Article 58 of the Law on Acts).
Article 3 of the Federal Law dated September 26, 1997 No. 125-FZ ‘On Freedom of Conscience and on Religious Associations’2 stipulates the right of parents to consent to a religious education and involvement of their young children in religious associations. We consider it important not to confuse the latter with the right to educate children.
Within the educational framework, the parent can directly instill religious beliefs in the child (which can be described by the term ‘religious education’).
The realization of the right to receive information about the child’s health status and the right to give informed consent to medical intervention or to refuse from it depends on the age requirements and specific circumstances listed in Clause 2 of Article 20, Clause 3 of Article 22, Clause 5 of Article 47, Clause 2 of Article 54 of the Federal Law dated November 21, 2011 No. 323-FZ ‘On the Basics of Health Care of Citizens in the Russian Federation’. 3However, this right should prevail in the cases that threaten the life of the child, as have already been mentioned above.
The right of parents previously known as the ‘right to education’, by recent amendments to Article 63 of the RF Family Code, was updated in terms of content to ‘the right to choose an educational organization and form of the children education’. Obviously, the fundamental solution to the matter of the need to educate a child does not belong to the parents, which is justified from the point of view of the children’s and public’s interests. In contrast to the previously existing norms on the implementation by parents of the right to education, the new provisions of Article 44 of the Law on Education contain details of parental competencies in the field of education.
The second category of rights in the group of derivative rights includes parental rights to protect the rights and interests of children. The RF Family Code represents the rights of parents and persons substituting them to protect the rights and interests of children specified in the civil and civil procedural legislation. A particular case requiring protection is the right to demand their return from any person holding a child not on the basis of law or a court decision (Article 68 of the RF Family Code).
As it seems, such aspect of protecting children as the issue of children’s access to freely distributed information in accordance with the Federal Law dated December 29, 2010 No. 436-FZ ‘On the Protection of Children from Information Harmful to their Health and Development’ 4should be the prerogative of parents. Any imperatives are appropriate in relation to persons distributing this type of лей. Какие-либо императивы целесообразны в отношении лиц, распространяющих такую информацию. Что касается родителей, то защита ребенка от информации, как частный случай защиты, не имеет своей специфики. При надлежащем осуществлении родительских прав добросовестными родителями любые соответствующие предписания являются необоснованным вмешательством в жизнь семьи.
Родителям принадлежит право заявлять о необходимости назначения ребенку временной опеки. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»1 (далее - Закон об опеке), родители могут обратиться в орган опеки и попечительства с совместным заявлением о назначении в качестве опекуна или попечителя конкретного лица на определенный ими период времени, в который они по уважительным причинам не смогут исполнять свои обязанности по отношению к ребенку. Единственный родитель может составить в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка такое заявление на случай своей смерти, а также изменить или отменить указанное заявление в том же порядке (п. 2 ст. 13 Закона об опеке). Мы рассматриваем данную возможность в качестве превентивного способа защиты прав ребенка по предотвращению неблагоприятных последствий в случаях, когда в складывающиеся обстоятельствах создается потенциальная угроза их наступления (в частности, в связи с невозможностью осуществления родителями их функций).
В качестве способа реализации родителем права на защиту ребенка мы рассматриваем и право родителя давать согласие на усыновление ребенка, установленное статьей 129 СК РФ. В этих отношениях родитель опосредованно реализует свой приоритет на определение условий дальнейшего воспитания ребенка. Практике известны случаи использования указанного положения статьи 129 СК РФ как формы отказа от родительских прав на ребенка, а в советский период даже обсуждалась необходимость предупреждения аналогичных правонарушений [5, с. 7]. Однако проблема до сих пор остается актуальной. Предлагается закрепить в статье 129
СК РФ следующее положение: «Согласие родителя на усыновление ребенка не прекращает родительских прав и обязанностей. Родительские права и обязанности в данном случае прекращаются с момента вступления в законную силу судебного решения об усыновлении».
В числе правовых возможностей родителей по защите прав и интересов детей предлагаем установить законодательно право родителей на получение любой информации о своих детях и корреспондирующую ему обязанность всех должностных лиц и иных граждан, которым в силу обстоятельств стала известна данная информация. Отсутствие такого законоположения, как нам видится, снижает гарантии реализации основополагающего права родителей на заботу о своем ребенке.
Предложенная авторами классификация родительских прав может быть полезна не только для целей теоретического анализа юридического содержания прав родителей, но и для оптимизации законодательных подходов к их нормативному закреплению. На ее основе предлагается детализировать в действующем семейном законодательстве субъективные права родителей с учетом природы родительского права, человеческих потребностей и идеи укрепления родительского авторитета. В любом случае осуществление как прямо поименованных прав, так и презюмируемых субъективных родительских прав должно быть с учетом интересов ребенка (и. 1 ст. 65 СК РФ).
Заключение
В стремлении отыскать «концепцию внутри концепции» (А. Н. Нечаева) семейного воспитания ребенка авторы статьи пришли к следующим научно-теоретическим выводам.
Семейное воспитание - это сегодня не только явление, предметно исследуемое в педагогике, психологии и социологии, но и правовой институт. Его границы в семейном законодательстве не являются четкими, а наполнение в смысле аккумуляции принадлежностных норм и их системности нуждается в предметном научном внимании. Пока же преобладает тот научный взгляд, что семейное воспитание -это перечень родительских прав и обязанностей (забот) в виде их нормативно-перечисленной совокупности с дополнением нормами о защите прав детей и родительской ответственности.
information. As for parents, the protection of the child from information, as a particular case of protection, does not have its own specifics. With the proper exercise of parental rights by bona fide parents, any relevant instructions are unreasonable interference in the life of the family.
Parents have the right to declare the need for temporary custody of the child. In accordance with Clause 1 of Article 13 of the Federal Law of April 24, 2008 No. 48-FZ ‘On Guardianship and Custody’ 1 (hereinafter referred to as the Law on Guardianship), parents can contact the Guardianship and Custody Authority with a joint statement on the appointment of a specific person as a guardian or the trustee for a child for a period of time determined by the parents during which, for valid reasons, they will not be able to fulfill their duties in relation to the child. A single parent can submit such a statement to the guardianship authority at the child’s place of residence in the event of his death, as well as can change or cancel the above statement in the same manner (Clause 2 of Article 13 of the Law on Custody). We consider this opportunity as a preventive way to protect the rights of the child to avoid adverse consequences in the cases when the developing circumstances pose a potential threat of the event (in particular, due to inability of parents to perform their functions).
As a way of the parent’s exercising the right to protect the child, we also consider the right of the parent to consent to the adoption of the child, established by Article 129 of the RF Family Code. In these relations, the parent indirectly realizes their priority in determining the conditions of further upbringing of the child. In practice, cases of using the specified provision of Article 129 of the RF Family Code as a form of abandonment of parental rights over the child. Moreover, in the Soviet period the need to prevent similar offenses was discussed [5, p. 7]. However, the problem is still relevant. We propose to enshrine the following provision in Article 129 of the RF Family Code:
‘the consent of the parent to the adoption of the child does not terminate the parental rights and obligations. Parental rights and obligations in this case are terminated from the moment the judicial decision on adoption comes into force’.
We suggest that among the legal possibilities of parents to protect the rights and interests of their children there should be legislatively established the right of parents to receive any information about their children and the corresponding obligation of all officials and other citizens who, by virtue of circumstances, became aware of this information. The absence of such a statute, as we believe, reduces the guarantees for realization of the fundamental right of parents to care for their child.
The classification of parental rights proposed herein can be useful not only for the purposes of theoretical analysis of the legal content of the parental rights but also for optimizing legislative approaches to enshrine then in the norms. On its basis, we proposed to detail in the current family law the rights of parents considering the nature of parental law, human needs, and the idea of reinforcement of the parental authority. In any case, the exercise of both directly named rights and the presumed parental rights should be subject to the interests of the child (Clause 1, Article 65 of the RF Family Code).
Conclusions
In an effort to find the ‘concept within the concept’ (by A. N. Nechaeva) of family education (upbringing) of a child, the authors of the paper came to the following research and theoretical conclusions.
Family education today is not only a phenomenon substantively investigated in pedagogy, psychology, and sociology but also a legal institution. It does not have clear boundaries in family law and its content, in terms of accumulation of attributive norms and their systematic nature, requires substantive scientific attention. Thus far, a scientific view prevails that family education is a list of parental rights and obligations (duties) in the form of their normatively-listed totality supplemented by norms on the protection of children’s rights and parental responsibility.
Признанный правом факт обладания родителями приоритетным перед другими лицами личным неимущественным правом на воспитание ребенка, в теории и практике обременен многочисленными смежными вопросами, не имеющими четкого размежевания с позитивными нормами о семейном воспитании. Не исключено, что по этой причине такие вопросы, как разграничение субъектов и участников семейного воспитания, содержательная специфика (абсолютного) родительского права на воспитание ребенка, порядок осуществления родительского права на воспитание ребенка, пока не нашли своего достаточного отражения в семейном законодательстве и не в полной мере актуализированы в доктрине.
Не без сожаления надлежит отметить, что научный ресурс исследования этих и сопутствующих им вопросов ощутимо смещен в сторону охранительной тематики. В условиях множественных научных констатаций кризиса семьи исследование проблем регулятивного аспекта семейного воспитания вышло за пределы «ядра» семейно-правовых исследований, невольно искажая представление о семейном законодательстве как территории добра, заботы и мира с его регулятивным ресурсом.
Очевидность такого положения стала основанием для констатации того, что в теоретических дискурсах, относящихся к теории семейного воспитания, в современной науке семейного права не достает методологических акцентов. Их наличие предопределяет методология конкретного исследования, в которой заключены критерии истинности и эффективности соответствующего научного дискурса.
При всей почитаемое™ междисциплинарной соотносимости педагогических, философских, социологических, правовых знаний, используемых и при написании настоящей статьи, авторы опирались на догматический тип право-понимания как тип, который в наибольшей мере влияет на направление научной мысли и практику правоприменения, что поддерживает сегодняшнего законодателя, помогая ему в создании новых семейно-правовых построений, и который сегодня общепринят в процессе правоприменения.
Догматика изучает право в его позитивных источниках и скрытой систематике, используя для этого методы формальной логики. Подобный подход с неизбежностью предполагает разграничение общих норм семейного законодательства (ст. 17, 38 Конституции РФ, гл. 1, 2 СК РФ) и специальных, расположенных в отдельных главах. Учет данного соотношения позволил авторам вычленить базовые нормы, содержащие законодательные посылы в исследуемой тематике. Эти посылы выражены в нормотворческой идее о том, что воспитание несовершеннолетнего в виде формирования его личности - это прерогатива семьи. Государство принимает на себя обязательства поддерживать семью в процессе воспитания, создавая необходимую инфраструктуру для целей семейного воспитания и при необходимости оказывая семье социальную поддержку. Но эта ветвь, оставаясь прерогативной, не единственная в воспитании. В параллели с ней идет общественное воспитание.
Бесспорно то, что для «здоровья» семейноправовой науки ей жизненно важно исследовать как регулятивные (регулятивно-диспозитивные и регулятивно-императивные), так и охранительные отношения, устанавливаемые по поводу семейного воспитания ребенка. Как и то, что при этом надлежит ориентироваться как на регулятивы, так и императивы. Однако не умаляя при этом значение регулятивной тематики, задающей параметры добра, нравственности, этики внутрисемейных отношений.
Не без учета современных тенденций, согласно которым нормы позитивного права, влияя на социальные отношения, могут и должны оцениваться по последствиям их действия, авторы опирались на один из подходов, принятых в социологической науке, - модернизацию семьи в современном мире. Это тот подход, который позволяет увидеть разрыв между сущим и должным, давая возможность использовать достижения смежных наук, без ухода только в одну сторону - сторону фактического неблагополучия семейных отношений, но и в сторону, позволяющую увидеть ориентиры более этичного и эффективного семейного законодательства.
Отталкиваясь от международной идеологии, ориентированной на идею «сначала дети, а потом народ», авторы искренне считают, что нормы о семейном воспитании в их регулятивном значении нуждаются в неменьшем законо-
The fact that the parents have a priority over other persons to have a personal non-property right to raise a child, recognized in law, is burdened in theory and practice with many related issues that do not have a clear separation from positive norms about family education. It is possible that for this reason such issues as the distinction between subjects and participants in family education, the specifics of the (absolute) parental right to raise a child, the procedure for exercising parental right to raise a child, have not yet been adequately represented in family law and are not sufficiently relevant in the doctrine.
It is not without regret that the scientific resource for the study of these issues and the issues surrounding them has been significantly shifted towards the topics of protection. In the context of multiple scientific evidences of the family crisis, the study of the issues of family education regulatory dimension went beyond the ‘core’ of family law research, involuntarily distorting the idea of family law as the territory of goodness, care and peace with its regulatory resource.
The evidence of this situation gives reasons to state that theoretical discourses related to the theory of family education, current studies of family law lack methodological accents. Their presence is predetermined by the methodology of a specific research, which contains the criteria of truth and effectiveness of the corresponding scientific discourse.
Despite the favor for cross-disciplinary correlation of pedagogical, philosophical, sociological, and legal knowledge used herein, the authors relied on the dogmatic type of legal understanding as the type that to the most extent influences the direction of scientific thought and the practice of law enforcement (which supports today’s legislator assisting it to create new legal family structures) and the one that is generally accepted in the process of law enforcement today.
The dogmatic studies the right in its positive sources and hidden systematics using formal logic methods for this. Such an approach inevitably implies the distinction between the general norms of family law (Articles 17, 38 of the Constitution of the Russian Federation, Chapter 1, 2 of the RF Family Code) and specific ones addressed in separate chapters. Consideration of this ratio lets us identify the basic norms containing legislative messages in the subject under study. These messages are expressed in the rulemaking idea that the education of a minor in the form of development of his personality is the prerogative of the family. The state assumes obligations to support the family in the upbringing process creating the necessary infrastructure for the purpose of family education and, if necessary, providing the family with social support. However, this branch, while remaining prerogative, is not the only one in education. Public education goes in parallel.
It is indisputable that for the ‘health’ of family law studies it is vitally important to study both the regulatory (regulatory dispositive and regulatory imperative) and protective relations established in relation to the family education (upbringing) of the child. It is also important to note the fact that it should be guided both by regulatory and imperative relations. However, without diminishing the importance of regulatory topics that specify the parameters of goodness, morality, and ethics within family relationships.
Herein, we relied on one of the approaches adopted in sociological science referred to as family modernization in the modern world, considering the current trends according to which the norms of positive law influencing social relations could and should be assessed based on the consequences of their actions. This is the approach that lets us see the gap between what we have and what should be, giving us the opportunity to use the achievements of related sciences without focusing on only one aspect - the actual ill-being of family relations, but also looking in the direction that lets us see the guidelines for more ethical and effective family law.
Based on an international ideology that focuses on the idea ‘first children then people’, we sincerely believe that the norms on family education in their regulatory meaning need no less legislative attention than protective norms. The question of дательном внимании, нежели нормы охранительные. Нельзя считать второстепенным вопрос о качестве тех социальных единиц, которые семья поставляет обществу. Иное обрекает общество на некачественную социальную коммуникацию, стимулируя законодателя на дальнейшую энтропию охранительных норм, а государство - на расходы по содержанию «платной» опеки и попечительства, к каковым, по статье 1 СК РФ, отнесены приемная и патро-натная семьи.
Давая теоретический анализ сконструированного в праве юридически возможного и юридически необходимого поведения родителей и лиц, их законно заменяющих, в сфере семейного воспитания, авторы высказывают предложения о более совершенном предметном структурировании норм, указывающих на субъективные права и обязанности родителей. Высказано также мнение относительно полноты имеющегося перечня в нормах семейного законодательства.
Список литературы Право ребенка на семейное воспитание: регулятивный аспект
- Белов В. А. Когда говорит право… // Закон. 2013. № 11. С. 75-87.
- Вентцель К. Н. Освобождение ребенка. Декларация прав ребенка. Смоленск, 1918. 50 с.
- Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. 411 c.
- Дементьева И. Ф., Голенкова З. Т. Теории семейного воспитания в общетеоретическом контексте социальных наук // Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия: Социология. 2018. № 3. С. 542-554.
- Звягинцева Л. М., Кузнецова Л. Г. Задачи совершенствования законодательства о браке и семье // Законодательство о браке и семье и практика его применения (к 20-летию Основ и КоБС РСФСР): межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1989.
- Ильин И. А. Почему мы верим в Россию: сочинения. М.: Эксмо, 2007. 919 с. (Антология мысли).
- Каптерев П. Ф. История русской педагогики: учеб. пособие для студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений. СПб.: Алетейя, 2004. 559 с.
- Ковязина И. Б., Багирова А. П. Делегирование функций родительского труда: возможности социологического изучения // Стратегия развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы IV междунар. науч.-практ. конф.; в 2 т. / науч. ред. А. П. Багирова. Екатеринбург, Изд-во Урал. федер. ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2018. С. 114-117.
- Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, США, Япония, Бразилия: учеб. пособие / сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010. 656 с.
- Конституции государств Европы: в 3 т. / под общ. ред. Л. А. Окунькова. М.: Норма, 2001. Т. 1. 824 c.
- Мардахаев Л. В. Семейное воспитание: проблемы и особенности // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 13 (342). С. 173-178.
- Мейер Д. И. Избранные труды: в 2 т. / вступ. слово проф. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2019. Т. 1. 848 с.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало ХХ в.): в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.
- Михеева Л. Ю. Развитие российского семейного законодательства // Кодификация российского частного права 2019 / под ред. Д. А. Медведева; Исслед. центр частного права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2019. 492 с.
- Нечаева А. М. О направлениях совершенствования российского семейного законодательства Теоретические и практические вопросы современной науки: материалы конференции / отв. ред. и сост. Г. Л. Шаматонова. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2017. С. 63-67.
- Петров Д. А. Правовой статус саморегулируемой организации в сфере предпринимательства: дис.... д-ра юрид. наук. СПб., 2016. 433 с.
- Cмирновская С. И. Ограничение родительских прав по семейному законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 176 с.
- Старосельцева М. М. О принципах осуществления родительских прав // Современное право. 2008. № 11. С. 36-38.
- Суслов А. А. Особенности отказа от отдельных видов субъективных прав // Пролог: журнал о праве. 2017. № 3. С. 12-20.
- Тарусина Н. Н. Бабушки и дедушки как субъекты семейного права // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 19-21.
- Татаринцева Е. А. Модели правоотношений по воспитанию ребенка в семье и тенденции их формирования в национальном семейном праве. М.: Юстицинформ, 2018. 134 с.
- Хоменко И. А. К вопросу об определении понятия "семейное воспитание" // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2012 г. №. 1 (17). С. 88-93.
- Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. 719 с.
- Dieter H. Familienrecht. Walter de Gruyter, 2012. 346 S.
- Lamont R. Family Law. Oxford University Press. 2018. 648 p.
- Lowe N., Douglas G. Bromley's Family Law. Oxford University Press, 2015. 1127 p.