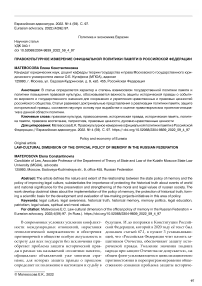Правокультурное измерение официальной политики памяти в Российской Федерации
Автор: Матевосова Елена Константиновна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 4 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется характер и степень взаимосвязи государственной политики памяти и политики повышения правовой культуры, обосновывается важность защиты исторической правды о событиях мирового и государственного значения для сохранения и укрепления нравственных и правовых ценностей российского общества. Статья развивает доктринальные представления о реализации политики памяти, защите исторической правды, составляя научную основу при выработке и оценке правотворческих проектов-инициатив в данной области политики.
Правовая культура, правосознание, историческая правда, историческая память, политика памяти, правовое воспитание, патриотизм, правовые ценности, духовно-нравственные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/140296666
IDR: 140296666 | УДК: 340.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2022_59_4_97
Текст научной статьи Правокультурное измерение официальной политики памяти в Российской Федерации
Policy and economy of Eurasia
Original article
LAW-CULTURAL DIMENSION OF THE OFFICIAL POLICY OF MEMORY IN THE RUSSIAN FEDERATION
MATEVOSOVA Elena Constantinovna
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law of the Kutafin Moscow State Law
University (MGUA), advocate
125993, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya str., 9, office 455, Russian Federation
будущем. И до поправки к Конституции Российской Федерации, которой в 2020 году её текст был дополнен статьей 67.1, в пункте 3 устанавливающей, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», на общем фоне усиливающегося цивилизационного противостояния и перепрограммирования общественного сознания проблема защиты историче- ской правды привлекала внимание политических и научных деятелей, а потому указанные дополнения в Основной закон государства конституировали те направления государственной политики памяти, которые идейно уже сформировались много лет назад. Ещё в 2008 году в систему официальных взглядов на внешнеполитическую деятельность России были включены положения о необходимости обеспечить условия по установлению исторической правды и не допускать превращения исторической темы в инструмент практической политики.
Следует отметить, что в действующей Конституции Российской Федерации положения о защите исторической правды в рамках одной статьи приведены правотворцем вместе с теми (о правопреемстве России, памяти предков, развитии и воспитании детей) [1], которые, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, призваны отразить содержательную направленность и конституционно-правовые условия деятельности органов государственной власти, и «предлагаемые нормы носят неполитический, надпартийный и внекон-фессиональный характер». Однако любая норма права, в том числе и в особенности конституционная, имеет политический характер, поскольку, во-первых, устанавливается субъектами, обладающими государственной властью, по своей природе являющейся политической, во-вторых, есть само средство оформления направлений государственной политики в различных сферах жизни общества. Приведенные конституционные нормы, формируя так называемое «конституционное мировоззрение» [2], не только имеют ярко окрашенный политический характер, но и, что важно, являются ценностно-политической основой для ряда нормативных правовых актов, определяющих содержание и меры политики памяти.
В настоящее время в евразийском пространстве проблема сохранения и защиты исторической правды является предметом обсуждения в органах управления таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС (Совместное заявление государств – членов ОДКБ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» от 2021 года, Московская декларация Совета глав государств – членов ШОС от 2020 года, Совместное коммюнике участников совместного заседания министров обороны государств – членов ШОС, государств – участников СНГ и госу- дарств – членов ОДКБ от 2020 года и многие другие подобные акты). Политические заявления таких организаций, безусловно, во многом способствуют выработке консолидированной позиции государств о совместных мерах в реализации политики памяти, однако, как представляется, концентрирование внимания преимущественно на противодействии фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов приводит к излишне узкому подходу в понимании политики памяти, ограничивая его историческими событиями того времени, в то время как попытки искажения исторической правды предпринимаются и в отношении иных событий мирового и государственного масштаба, ставших частью той истории, которая имеет экзистенцио-нальное значение для отдельных государств.
Каждое правотворческое решение, независимо от предметности регулирования, помимо учёта ряда формально-юридических аспектов, должно быть научно обосновано, а тот большой круг вопросов, которые неизбежно возникают при определении приоритетов и, в особенности, порядка реализации государством политики памяти, необходимо выносить на обсуждение с представителями разных научных направлений, согласовывая с ними комплекс принимаемых мер, потому что такая политика имеет множество измерений, одним из которых, несомненно, является измерение правовое. Но объективность наших выводов во многом зависит от того, насколько нам известно и нами осмыслено выражение политики памяти в других измерениях – в собственно историческом, социальном, философском и культурном, а потому она формируется и реализуется стараниями не только управленцев и юристов, но и научных деятелей при всей междисциплинарности рассматриваемых вопросов.
Правовая культура есть неотъемлемая часть общей культуры. И, обращаясь к политике памяти в её культурном измерении, следует прежде всего исходить из состояния, перспектив и препятствий в целом культурного развития общества, не только правового. Но если уровень общей культуры предопределяет уровень культуры правовой, а данная зависимость очевидна, то официальная политика памяти, в каких бы формах и какими бы средствами она бы ни осуществлялась, оказывает прямое влияние на правовую культуру, особенно в контексте тех исторических событий, которые предопределили государственный и правовой уклад жизни общества. И российской, и зарубежной науке известны такие понятия, как «исторический код», «культурный код», и при- менительно к проблематике правовой культуры, представляется, допустимо и целесообразно утверждать о существовании некого кода, который не только отражает историю, но и определяет векторы дальнейшего правокультурного развития общества. А потому любые положительные преображающие или отрицательные деструктивные воздействия на исторический код неминуемо запустят процесс переписывания кода правокультурного.
В 2011 году Президентом Российской Федерации были утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. С того времени прошло уже более 10 лет, однако проблемы борьбы с правовым нигилизмом российского общества не остались в прошлом, а только с новой силой обращают на себя внимание. Широкую поддержку и сегодня продолжает получать мнение о том, что этот социальный недуг есть следствие того, что, преодолевая тернистый путь нового государственного строительства, современная Россия растеряла в этой долгой дороге то, что исторически скрепляло общество, поддерживая его общий дух, объединяя интересы и стремления. Несмотря на то, что у правового нигилизма имеются далеко не только идеологические причины, ментальный кризис в немалой степени повлиял на его распространение и усиление. Отрицание ценности права, как правило, сочетается с отрицанием значения исторических достижений государства. И в этой связи официальная политика памяти является одной из инструментальных возможностей оказать благотворное влияние на формирующееся правовое сознание молодёжи и лечебное действие на сознание нигилистически настроенных граждан иных возрастных групп. Потенциал политики памяти в эмоционально-психологическом и воспитательном плане, безусловно, очень велик, но этот потенциал надо правильно использовать.
Надо признать, что рассуждения о правовой культуре, правосознании общества, уровне правовой грамотности, которые звучат с политической трибуны из уст государственных деятелей, о которых вещают учёные за университетской кафедрой, обычно воспринимаются как лишенные практического воплощения декларации и теоретизирования. И, не являясь плодом научных фантазий, доводящих возможности абстрагирования до абсурда, это всё же во многом рассуждения о тех явлениях, которые, несмотря на своё присутствие в нашей жизни, с трудом уловимы сознанием. Всё, что не имеет прямого выраже- ния в законодательстве и отражения в правоприменительной практике, нередко ошибочно представляется либо несущественным, либо несуществующим. Однако примечательно то, что и правотворец, и правоприменитель при возникновении реальных сбоев в функционировании механизма государственно-правового регулирования объясняют причины многих серьезных проблем именно недостаточно высоким уровнем правовой культуры общества как следствием правового нигилизма, компонентно поражающего правосознание. Если объяснять «мифом» реально существующие проблемы, то они не только не разрешаются, но и всячески маскируются. Если же рассматривать повышение правовой культуры общества как в действительности важную практическую задачу, от которой зависит успех преобразований по другим направлениям политики государства, то на властных субъектов необходимо возложить ещё большую ответственность за конкретные результаты осуществляемых мер, иначе вопросы о правовой культуре могут занять почётное место в ряду наиболее пространных и даже мифических.
Отсутствие единых консенсуально признанных критериев и показателей оценки уровня правовой культуры не является непреодолимым препятствием к такой оценке, как и отсутствие шкалы соответствующих измерений не исключает возможности оценки сведений, представляемых как исторический факт, устанавливая их правдивость или ложность и признавая отличия между исторической правдой факта и исторической правдой смысла [3]. Но должна ли политика памяти отражать только те факты, которые имеют полную историческую верификацию, или в реализации этой политики могут быть использованы различные интерпретации тех или иных событий, при которых их воспитательно-идеологический потенциал явно перевешивает необходимость их подтверждения? Что же в политике памяти имеет бóльшее значение – политика или память? Если сама память, то невозможно помнить то, чего не было. Можно не забывать, помнить и вспоминать только то, что есть часть прошлого без искажения в настоящем. При всей, казалось бы, простоте в своей постановке, эти вопросы являются исключительно сложными, и, рассматривая их в контексте повышения правовой культуры общества, важно отметить, что именно высокий уровень правовой культуры характеризуется развитостью аналитического и критичного мышления, при котором сознание людей способно отвергать то, что вызывает сомнения в правдивости.
Проводимая в Российской Федерации официальная политика памяти направлена, прежде всего, на патриотическое воспитание как часть правового воспитания. Подробно анализируя принимаемые правовые акты в данной области, можно констатировать, что патриотизм на протяжении многих лет рассматривается в большей степени в значении готовности исполнить воинский долг, а это есть необоснованная односторонность понимания истинного патриотизма, имеющего своим источником, как и «нормальное правосознание», духовную природу человека и его волю к духу, «слагаясь и протекая в формах права и государства» [4], и без этих идей невозможно представить ни одно государство, независимо от наличия или отсутствия армии.
Ядром национальной идеи, к формированию которой современная Россия уже приходит, являются идеи патриотизма в самом широком их понимании, и любая национальная идея, какая бы идеологическая платформа ни создавалась, обращается в своих посылах к истории государства. Патриотические ценности являются неотъемлемой составляющей правовой культуры, без политики памяти патриотическое воспитание не будет в должной степени эффективным, без политики памяти национальная идея не будет иметь те вековые корни, которые устоят при любых внешних воздействиях на корневую систему государства, в которой правовое сплетается с политическим, выражая и направляя культурное.
В действующей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной в 2021 году, содержатся такие слова, как «сбережение народа», которые ранее не использовались в актах такого уровня. И, исходя из положений данной Стратегии, без сохранения духовно-нравственных идеалов и культурно-исторических ценностей сбережение народа невозможно. Более того, в числе стратегических национальных приоритетов, кроме сбережения народа, обороны страны и других направлений, указанный документ впервые в рамках официальных стратегических взглядов на национальную безопасность провозглашает такой приоритет, как «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Новые нормативно-правовые подходы требуют от юридической и политической науки и смены парадигм, и введения в научный оборот новых терминов и понятий. Сегодня одним из них является «мнемоническая безопасность», содержание которой ещё только предстоит определить, увеличивая критическую массу научных взглядов о таком виде безопасности, напрямую связанном с системой человеческой памяти, для сохранения памяти о ключевых исторических событиях и защиты в целом правосознания общества от разрушительного переформатирования, так как риски, угрозы и вызовы в области мнемонической безопасности затрагивают и правокультурный код общества.
Официальная политика памяти для России, ведущей мировой державы, имеющей богатейший культурно-исторический опыт, определивший ход мировой истории, есть не альтернативное, а необходимое направление политики, значение которого подчёркивает важность её проведения на методологической научно выверенной основе, и только при этом условии историческая правда из летописного текста претворится в духовной жизни человека.
Список литературы Правокультурное измерение официальной политики памяти в Российской Федерации
- Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". М., 2020. С. 34-46.
- Бондарь Н.С., Баринов Э.Э. Аксиология конституционного мировоззрения. Часть II. Ценностное измерение конституционного мировоззрения в координатах конституционного правосудия // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 2. С. 3-10.
- Лазарев В.В. Чаадаев. М., 1986. С. 44-52.
- Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 91.