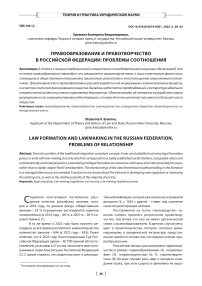Правообразование и правотворчество в Российской Федерации: проблемы соотношения
Автор: Еремина Е.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиции традиционной интегративно-последовательной концепции сделан вывод, что не всякое правообразование переходит или завершается правотворчеством, а лишь отвечающее фактически сложившимся общественным отношениям, признанным ценностями и конституционно закрепленным положениями. Правотворчество и правообразование рассматриваются как непрерывные и взаимосвязанные процессы, а не жестко поэтапно фиксированное развитие. Выявлены недостатки преобладающей в литературе идеальной теоретической модели в условиях управляемой демократии. Сделаны выводы об интересах в разработке нового регулирования или совершенствовании действующего, а также об относительной пассивности большей части общества.
Правообразование, правотворчество, законодательство, гражданское общество, нормотворчество, законодательная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/14132285
IDR: 14132285 | УДК: 340.12 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_5_38_42
Текст научной статьи Правообразование и правотворчество в Российской Федерации: проблемы соотношения
С оциологи констатируют постепенное улучшение качества российских законов, которое в 2018 году, по данным фонда «Общественное мнение»1, 53 % опрошенных респондентов оценили положительно (в 2014 году – 46 %; в 2001-м – 28 % соответственно) [1].
В то же время в 2023 году было принято рекордное за всё время российского законотворчества количество законов – 694 (в 2022 году – 653). Также отметим, что в 2023 году Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) принял 60 постановлений, установив в 27 из них несоответствие оспариваемых норм Конституции Российской Федерации [2]. С одной стороны, это свидетельствует о законода- тельной инфляции, которая уже признана в правовой доктрине [2, c. 166], с другой – ставит под сомнение качество действующих законов.
Поставленное на поток «производство» законов сложно признать результатом правотворчества, тем более что оно не имеет органической связи с правообразованием.В данном случае речь идет о правотворчестве, которое согласно доминирующему в юридической литературе представлению является сегментом, последним этапом пра-вообразования.
Российские авторы рассматривают правотворчество в рамках «правообразования» [4], «нормогра-фии» [5], «нормотворчества» [6; 7], «законотворчества» [8]. Во всех случаях речь идет о процессе созидания права, при этом сущность феномена не выра- жается, хотя большинство специалистов считает это правотворчеством [10].
Современное понимание правообразрования, как и правотворчества, неоднозначно. Их принято сопоставлять с указанными выше процессами, но чаще всего между собой [11; 18].
Согласно основной точке зрения правотворчество финализирует правообразование, согласно второй – это разные явления, сторонники третьей отрицают их наличие, переименовывая или объединяя стадии, «законотворчества полного цикла» (В.А. Скобликов), когда процесс «…завершается принятием и введением в действие соответствующего закона» [12, c. 65].
Традиционный интегративный подход состоит в том, что генезис общественных отношений ведет к генезису права, а правотворчество – это «способ формирования права», то есть разработки и принятия нормативного правового акта как завершающей стадии правообразования [13, c. 7]. Далее анализ затрагивает «культуру правотворчества» [15; 16] и «правотворческую политику» [16, c. 13].
Формирование и развитие права в декларируемом социальном правовом государстве формирует фундамент, на котором государственное управление действует в интересах общества, учитывая сложную совокупность противоречивых интересов [11]. Это идеальная модель. Констатируя «хрупкость российских правовых механизмов», В.Д. Зорькин квалифицировал российское правотворчество лишь как «технический процесс» [17, c. 26].
В идеальном демократическом, правовом государстве граждане и институты гражданского общества задают вектор действий законодателя, как и государства. Социум в процессе правообразования, а затем и правотворчества определяет для себя цель и предназначение правового регулирования [19, c. 234].
Государство легитимизирует не все, пусть и развитые, отношения, а лишь соответствующие Конституции Российской Федерации (гл. 1, 2). Так, в период пандемии и падения уровня жизни до 45 % выросло число граждан, считавших нормальным (по ситуации) не платить налоги [20]. Эта мировая тенденция [21] не перешла и не могла перейти в стадию правотворчества. Устойчивость субкультур, например, в криминальном мире, не ведет к легитимизации жизни по «блатным понятиям» и «воровским законам» [22; 23].
Предполагается, что правообразование – это объективный результат генезиса социума, а правила поведения исходят от общества, а не от воли государства, которое эту волю лишь оформляет [4]. В то же время своеобразие российской традиции рисует приписываемое М.Е. Салтыкову-Щедрину или П. А. Вязем- скому слова, что «суровость российских законов смягчается необязательностью их выполнения» [25; 26]. Исторически «смягчение» производно от особого «общественного договора», где народ и государство «согласились» не полностью исполнять или не исполнять сомнительные законы, чтобы не навредить, и так компенсировать некомпетентность власти. Еще при Александре I П.А. Вяземский цитировал услышанное от М.А. Полетики «верное» средство «спасения… от дурных мер, принимаемых правительством». Это «дурное исполнение», то есть саботаж «плохих» законов [28]. Н.М. Лужков определяет «пользу» неполного исполнения сомнительных директив для укрепления государства, страдающего от «плохого управления» [29].
Такой «общественный договор» не абсолютизировал права и взаимные обязанности, а минимизировал требования друг к другу по точности и обязательности исполнения, соответственно, правообра-зование и правотворчество не получили устойчивой ориентации на строгое соблюдение буквы закона.
Традиции авторитаризма, тоталитаризма и управляемой демократии [31] минимизировали само регулирование общественных отношений, сделав его формальным. Российское правотворчество всегда определялось влиянием не источника власти – народа, а «субъективного фактора» – «воли законодателя» [4].
Современный акцент не на «общесоциальных факторах» правообразования, а на санкциях, геополитической ситуации, пандемии [32; 36]. Описать «механизм» правообразования [33] сложно ввиду стихийности явления. Главная проблема состоит в определении переходной стадии от правообразования – к правотворчеству, от неформализованных общественных потребностей, запросов, критики, предложений – к их нормативной реализации.
Народ как единственный источник власти определяет вектор и цели правообразования, делегируя необходимые полномочия своим представителям для правотворчества. На практике общество все ещедоказывает « целесообразность предварительного публичного обсуждения политико-государственного решения», чтобы «сформулировать политическую волю, которую предполагается заложить в закон» [37]. Обсуждения регламентированы, однако их реальная работоспособность критикуется [38, c. 42].
Серьезными помехами для процессов позитивного правообразования является относительно низкий уровень правосознания и правовой грамотности большей части населения, а также слабая активность гражданского общества. Опросы показывают, что лишь каждый десятый знает хотя бы какие-то статьи из Конституции Российской Федерации или другие, наиболее применимые, законы (кодексы) [39]. Сама по себе юридическая грамотность для процессов правообразования не обязательна, однако она, как и правосознание, позволяет осознавать происходящее, понимать и реализовывать свои права, выполнять обязанности, точно зная их пределы. В противном случае между правообразованием и правотворчеством возникает разрыв, когда по исторической традиции «темному» народу стремятся «помочь» принять нужное ему законодательство, выполняя за него или минуя сам процесс правообразования, переводя его даже не в правотворчество, а на конвейер, продуцирующий законодательную инфляцию.
Таким образом, в российской теории права доминирует признание правотворчества финализацией стихийного и естественного по своей природе процесса правообразования. По второй точке зрения эти процессы, взаимодействуют, но не составляют единого целого. Все исследователи согласны с тем, что в приоритете для двух процессов (как и их интеграции) должны быть конституционные положения социального правового государства.
Проблемными остаются вопросы причинно-следственных соотношений правообразования, правотворчества и так называемой законодательной (нормативной) инфляции. Нет ответа на вопро- сы о природе и причинах живучести «мертвых» норм, высокой доле ситуативного регулирования, моменте возникновения в правовом акте дефекта, делающего его не соответствующим задачам регулирования и/ или не позволяющего его адекватно применять.
Следуя мэйнстриму, то есть интегративно-последовательной концепции соотношения право-образования и правотворчества, необходимо подчеркнуть, что не всякое правообразование, даже в устойчивых и массовых отношениях, завершается правотворчеством. Это присуще лишь идеям, соответствующим социально полезным сложившимся общественным отношениям, соответствующим конституционным нормам и традиционным ценностям.
Правотворчество признается нами как развитие процессов правообразования, но без деления их на «этапы», а исходя из непрерывности и взаимосвязи процессов. Классическая интегративно последовательна модель «правообразование – правотворчество» признается в большей мере теоретической конструкцией, так как при управляемой демократии она реализуется лишь частично и в основном по внешним признакам.
Список литературы Правообразование и правотворчество в Российской Федерации: проблемы соотношения
- Отношение граждан к российским законам улучшилось // Государственная дума РФ [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/28198/ (дата обращения: 10.07.2024).
- Правовые итоги 2023 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/article/1667613/?ysclid=lx22kmug2i557676200 (дата обращения: 10.07.2024).
- Кожокарь И.П. Законодательная инфляция: теоретико-правовое исследование // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 56. С. 158-186.
- Афанасьев В.С. Правообразование и правотворчество // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 1.
- Мосин Е.Ф. Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое пособие / под ред. Ю. Г. Арзамасова. М.: Академический проект, 2007. 560 с.
- Лопатин В.Н. Конституционная законность и проблемы нормотворчества в России // Журнал российского права. 2004. № 5. С. 6-15.
- Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф. дис. … д-ра юр. наук. М., 2012.
- Магомедова П.Р., Абдулгамидов А.М. Правотворчество органов местного самоуправления// Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 1. С. 68-70.
- Брызгалов А.И. Правотворчество в отечественной науке: становление доктрины и современные представления. М., 2009. С. 96-97.
- Матвеева М.А. Теория правотворчества в отечественной юриспруденции // Вопросы теории, истории государства и права. 2014. № 1 (32). С. 37-41.
- Дробязко С.Г. Правообразование, правотворчество, правоустановление – их субъекты и принципы // Вестник Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/20953/1/2_дробязко.pdf (дата обращения: 10.07.2024).
- Скобликов П.А. Ситуативно-популистское законотворчество как правовой и социальный феномен, его актуальные проявления и пути ограничения // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (57). С. 61-68.
- Каминская Е.А. Муниципальное правотворчество в механизме правообразования: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01. Белгород, 2013.
- Мазуренко А.П. Правотворческая политика и культура законотворчества: вопросы теории // Восточно-Европейский научный журнал. 2016. Т. 8, № 6. С. 12-14.
- Баев В.Г., Марченко А.Н. Культура правотворчества – культура принятия решений // Правовая культура. 2021. № 2 (45). С. 114-115.
- Тосунян Г.А., Санникова Л.В. Культура правотворчества в современной России // Государство и право. 2018. № 3. С. 28-34.
- Зорькин В.Д. Право против хаоса: монография. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. 368 с.
- Орлова А.С. Правотворчество в России: проблемный анализ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 10-3 (73). С. 148-151.
- Хаддур З. А., Иванова С.А. Принцип «что не запрещено – дозволено» // Образование и право. 2020. № 10. С. 233-235.
- РБК [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/26/05/2020/5ecb94709a79470c4ad71703 (дата обращения: 10.07.2024).
- Friedrich, David O. Trusted Criminals: White Collar Crime In Contemporary Society (4 ed.). Wadsworth Publishing, 200. 50 p.
- Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. М.: Права человека, 2012. 152 с.
- Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. 232 с.
- Тюремное население СССР // Демоскоп Weekly. 2006. № 239-240. 20 марта - 2 апреля.
- Шамшурин В. И. Особенности политической теории в Византии и России // Вестник Московского университета. 2006. № 5.
- Пастухов В.Б. Революция и конституция в посткоммунистической России: государство диктатуры люмпенпролетариата. М., 2018. 446 с.
- Акульшин П.В., Вяземский П.А. Власть и общество в дореформенной России. М., 2001.
- Вяземский П.А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992.
- Лужков Ю.М. Российские «Законы Паркинсона»: лекция. М.: Вагриус, 1999. 94 с.
- Буров А.Н. Управляемая демократия в России: исторические реалии и современная динамика // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). 2012. № 12 (71). С. 127-141.
- Проничев В.А. Трансформации политической оппозиции России в условиях режима управляемой демократии // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2011. № 5-1. С. 252-255.
- Мугаева Е.В. Антироссийские санкции и их влияние на экономику страны // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 7. С. 150-152.
- Каминская Е.А. Муниципальное правотворчество в механизме правообразования: автореф. дис. … канд. юр. наук. 12.00.01. Белгород, 2013.
- Соболевская Ю.В. Социологические исследования – инструмент выявления общественного мнения по вопросам права // Социальная инженерия: как социология меняет мир: материалы IX Международной социологической Грушинской конференции, 20-21 марта 2019 года. М.: ВЦИОМ, 2019. 480 с. [Электронный ресурс] https://profi.wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2019/tezisi_2019.pdf (дата обращения: 10.07.2024).
- Касторская Е.В., Касторский Г.Л. Антисоциальные последствия однополых браков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 2 (33). С. 72-75.
- Иванов А.В. Природа и структура сознания человека // Живая этика и наука. 2020. № 2. С. 539-559.
- Тосунян Г.А., Санникова Л.В. Культура правотворчества в современной России // Государство и право. 2018. № 3. С. 28-34.
- Курячая М.М. Опрос граждан как форма участия населения в решении вопросов управления в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 5. С. 39-46.
- Конституция РФ: наши права и свободы ВЦИОМ. Пресс-релиз [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/konstitucziya-rossii-menyat-ili-ne-menyat (дата обращения: 10.07.2024).