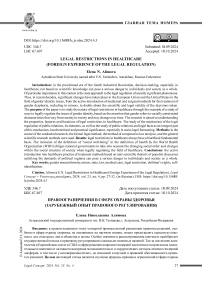Правоограничения в сфере охраны здоровья (зарубежный опыт правового регулирования)
Автор: Алимова Елена Николаевна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в провозглашенную эпоху четвертой промышленной революции принятие решений, особенно в сфере охраны здоровья, не основанных на научном знании, может представлять серьезную опасность для отдельных лиц и общества в целом. Особое значение в рассматриваемом контексте приобретает государственный подход к правовому регулированию социально значимых явлений. Так за последние десятилетия в Европейском союзе и США в сфере решения вопросов гендерной идентичности произошли значительные изменения от активного внедрения медикаментозных и хирургических методов лечения гендерной дисфории, в том числе у несовершеннолетних, до сомнений в научной и правовой обоснованности принятых решений. Целью настоящей статьи является изучение природы правовых ограничений в сфере охраны здоровья на примере исследования способов правового регулирования вопросов гендерной идентичности, основанной на утверждении, что гендер относится к социально сконструированным характеристикам, которые варьируются от общества к обществу и могут меняться с течением времени. Исследование направлено на понимание свойств, особенностей и функции правовых ограничений в сфере охраны здоровья. Изучение механизма правового регулирования общественных отношений, его элементов, а также изучение общественных отношений и юридических фактов как неотъемлемой части этого механизма, имеет теоретическое и практическое значение, особенно в области социально-правового прогнозирования. Исследование также направлено на понимание свойств, особенностей и функций правовых ограничений в сфере охраны здоровья.
Гендерное несоответствие, несовершеннолетний, государство, закон, медицинская помощь, правовое ограничение, права детей, самоидентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149147287
IDR: 149147287 | УДК: 346.7 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.4.3
Текст научной статьи Правоограничения в сфере охраны здоровья (зарубежный опыт правового регулирования)
DOI:
Демография, размер и организация общественных групп занимают центральное место в социальной эволюции. Любые человеческие сообщества, даже самые ранние, едва вышедшие из стадного состояния, не способны обеспечить свою жизнедеятельность и выживаемость без элементарных регуляторов поведения своих членов. Относительно этих регуляторов употребляются самые разные термины: социальные нормы, обычай, право, обычное право, мононормы, нормы, соционор-мативные функции, в которые вкладываются, в зависимости от исходных позиций (и даже специализации) авторов, подчас самые различные значения [1; 2, с. 105].
Многие нормы регулируют действия бесчисленного множества коллективов и ролей, но лишь в определенной части их действий. Поэтому коллектив обычно функционирует под контролем большого числа специальных норм. В нем всегда наличествует множество ролей, хотя почти каждая значительная роль исполняется во множестве конкретных коллективов. Тем не менее социальные системы состоят из комбинаций этих структурных компонентов. Чтобы достичь стабильной институционализации, коллективы и роли должны
«руководствоваться» конкретными ценностями и нормами, а сами ценности и нормы институционализируются только постольку, поскольку они «воплощаются в жизнь» конкретными коллективами и ролями [3, с. 19]. Государство же является аппаратом публичного управления, которое специализируется на административном применении политической власти в коллективных целях, а общество – структурированным рыночным хозяйством, общением и работой частных лиц. При этом политика как выражение политической воли граждан выполняет функцию проведения в жизнь таких частных интересов, которые имеют общественное значение [4, с. 382]. Дифференцируясь, государство имеет тенденцию сосредоточиваться на двух основных функциональных комплексах. Первый охватывает ответственность за поддержание целостности социального сообщества перед лицом глобальных угроз, с особым, но не исключительным акцентом на его легитимном нормативном порядке. Сюда же относится функция принуждения и, по крайней мере, некоторая доля участия в осуществлении интерпретации. К тому же общий процесс дифференциации сферы управления ведет к обособлению областей, в которых допускается открытое формулирование и узаконение новых норм, так что частью этого функционального комплекса становится законодательная деятельность. Второй комплекс включает все виды исполнительной деятельности государства, которая связана с коллективными действиями в любых ситуациях, указывающих на необходимость каких-то мер в «общественных» интересах. Границы этой ответственности простираются от безусловно значимых дел, таких, как защита территориальных пределов или поддержание общественного порядка, до почти что любого вопроса, который считается «затрагивающим общественные интересы» [3, с. 31–32].
Однако на практике вопросы, представляющие общественный и частный интерес в отдельных случаях требуют баланса прав и обязанностей. Так, антипрививочное движение в период новой коронавирусной инфекции основанное на утверждении, что вакцины вредны и не безопасны, способствовало распространению недостоверной информации о клинических последствиях вакцинации в период, когда обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции была направлена на сохранение здоровья всего общества в целом и сохранение жизней лиц, наиболее подверженных осложнениям от инфекции. Сфера охраны здоровья граждан является средой, в которой политика реализуется в обществе через законы, нормативные акты, действия и решения с целью содействия хорошему самочувствию конкретного лица и обеспечения достижения целей в области здоровья всего общества. Кроме того, рассматриваемая сфера состоит из немедицинских факторов, влияющих на самоопределение человеком своего здоровья, к одному из которых можно отнести социальный контекст. В различные возрастные периоды жизни человека социальная среда может оказывать влияние на его представление о себе, его самоидентификацию. В жизни также могут быть критические этапы, в которые социальная среда оказывает более сильное влияние на показатели здоровья. При этом механизм изменений социальной среды отличен от изменений биологического организма, и зависит от множества культурных, технических, экономических и др. факторов.
Социальный контекст гендерной идентичности основан на положении, что гендер относится к социально сконструированным характеристикам, которые варьируются от общества к обществу и могут меняться с течением времени. В соответствии с обновленной 11 версией международной классификации болезней гендерная дисфория (гендерное несоответствие) характеризуется значительным и устойчивым несоответствием между индивидуально испытываемой гендерной принадлежностью и приписываемым полом. Гендерный вариант поведения и предпочтения сами по себе не являются основанием для установления диагноза в этой группе. Если гендерное несоответствие не является основанием для установления диагноза, то традиционные подходы к правовому регулированию организации и оказания медицинской помощи в рамках лечения конкретных заболеваний перестают существовать.
В 2024 г. Европейская академия педиатрии выступила с заявлением о клиническом ведении детей и подростков с гендерной дисфорией, обозначив, что подходы к решению вопросов гендерной идентичности, путем применения блокаторов полового созревания и гендерно-подтверждающего лечения европейских детей в настоящее время подвергаются критическому пересмотру [7]. Об опасности гендер-подтверждающего ухода заявила и один из основателей национальной педиатрической гендерной программы Финляндии, отметив, что за годы работы у подавляющего большинства несовершеннолетних, обратившихся с намерением о смене пола, регистрировались тяжелые психические расстройства. Некоторые дети происходили из семей с многочисленными психосоциальными проблемами. При таких условиях достижение идентичности – это результат успешного развития подростка, а не его отправная точка [8].
На законодательном уровне, в тринадцати из двадцати восьми государств-членов Европейского союза действуют общие хирургические правила в отношении возраста, в котором дети могут обращаться с просьбой об операции по смене пола [5]. Так, минимальный возраст для юридического признания пола в Великобритании составляет 18 лет, при этом возраст для доступа к медицинскому лечению гендерной идентичности определяется Национальной службой здравоохранения, а не Законом о признании пола. Хирургическое лечение недоступно для лиц моложе 18 лет. Лечение блокаторами полового созревания и гормонами, подтверждающими гендерный фактор доступно лицам в возрасте 16 лет и старше. В Норвегии в Законе об изменении пола закреплено, что с юридической точки зрения гендер означает пол человека, зарегистрированный в национальном реестре населения, Дети, достигшие 16-летнего возраста, могут подать заявление на изменение законного пола. Во Франции в соответствии с рассматриваемым в сенате законопроектом, направленным на регулирование медицинской помощи несовершеннолетним с гендерной дисфорией, предлагается запретить назначение пациенту в возрасте до 18 лет гормональной терапии, направленной на развитие вторичных признаков пола, с которым идентифицирует себя несовершеннолетний, а также хирургические операции по смене пола. Дания, так же присоединилась к списку стран, резко ограничивших гендерный переход молодежи, после систематических обзоров фактических данных, проведенных в Европе, и последующего изменения парадигмы «гендерного утверждения» в пользу осторожного, ориентированного на развитие подхода, который отдает приоритет психосоциальной поддержке и не инвазивному разрешению гендерного дистресса.
В США 2023 г. стал рекордным по числу принятых отдельными штатами законов, запрещающих медицинское лечение и различные хирургические процедуры для несовершеннолетних. Ряд законодателей квалифицирует гендерно-ориентированные процедуры для несовершеннолетних как «жестокое обращение с детьми». Тем не менее запрет на гендерно ориентированный уход за несовершеннолетними может рассматриваться как ограничение конституционных прав. Верховный суд США планирует рассмотреть законность усилий государства по запрету гендерно ориентированной медицинской помощи несовершеннолетним.
Однако, пациенты, не получившие ожидаемого эффекта от лечения гендерной дисфории, и решение проблем с психическим здоровьем после проведения хирургических процедур все чаще обращаются в судебные органы за надлежащей правовой защитой. Многие пациенты сожалеют о гендерно ориентированном лечении и считают, что им был причинен вред.
В 2020 г. Королевский суд Великобритании в рамках рассмотрения иска бывшей пациентки клиники, оказывающей медицинскую помощь несовершеннолетним по гендерным вопросам к Национальной службе здравоохранения пришел к выводу об отсутствии доказательной базы использования блокаторов полового созревания у несовершеннолетних с гендерной дисфорией, отметив, что при таких обстоятельствах трудность достижения осознанного согласия еще более усугубляется. Судебный орган отнес подобное лечение к экспериментальному, указав, что экспериментальное лечение никогда не могло бы быть согласовано. Так же, в судебном акте отмечено, что сочетание пожизненного и изменяющего жизнь лечения, предоставляемого детям, с очень ограниченными знаниями о том, в какой степени оно принесет или не принесет им пользу, дает серьезные основания для беспокойства, а учитывая долгосрочные последствия клинических вмешательств, и тот факт, что предложенное лечение пока еще является инновационным и экспериментальным, клиницисты могут рассматривать их как случаи, когда следует запрашивать разрешение суда до начала клинического лечения [9].
В апреле 2024 г. председателем независимого обзора услуг по обеспечению гендерной идентичности для детей и молодежи Национальной службы здравоохранения Великобритании предоставлен отчет, в котором обозначено, что инновации важны, если медицина хочет двигаться вперед, но должен быть соразмерный уровень мониторинга, надзора и регулирования, который не сдерживал бы прогресс и в то же время предотвращал проникновение непроверенных подходов в клиническую практику [6].
Правовые ограничения в сфере охраны здоровья всегда имеют биоэтическую фундаментальную основу. Деятельность государственных органов в сфере здравоохранения направлена на предоставление эффективных медицинских услуг, поддержание, и обеспечение здоровья всего общества. Активное внедрение в практику здравоохранения методов лечения основанных на антинаучной риторике популистских дискурсов удовлетворяющих запросы политических режимов может представлять серьезную опасность для отдель- ных лиц и общества в целом. Правовые ограничения в сфере охраны здоровья – это любые ограничения установленные законом или нормативным актом и реализующие защитную функцию права. Ограничения могут быть направленны на побуждение к действию, например требование об обязательной вакцинации или препятствующие осуществлению определенных действий, запрет на процедуры смены пола. Медицинские услуги не могут являться основой для социальной интеграции человека и его самоидентификации. Затрагивая физическое тело, хирургические операции в рамках гендерно ориентированной помощи необратимо меняют анатомию отдельных органов в соответствии с представлением человека о себе. Должно ли государство ограничить человека в принятии решений в его отношении, когда базовый принцип любого медицинского вмешательства основан на тезисе «не навреди»? Неизбежно любое законное ограничение рассматривается, как ущемляющее права человека и рассматривается на предмет конституционности. Здоровье человека представляет особую сферу действия правовых ограничений, которые подлежат детальному изучению, особенно в эпоху стремительной интеграции биологического организма и технологических инноваций. Правовые ограничения в сфере охраны здоровья всегда имеют био-этическую фундаментальную основу. Национальные правительства при правовом регулировании сферы здравоохранения должны учитывать меняющийся социальный порядок и изменения внутри социальной структуры общества, но противоречивые законы и судебные решения могут создавать глубокую неопределенность и наносить особенно серьезный ущерб в ситуациях, когда государственная политика в такой сфере как охрана здоровья формируется без учета современных научных данных.
Список литературы Правоограничения в сфере охраны здоровья (зарубежный опыт правового регулирования)
- Епифанов, А. Е. Проблемы обеспечения и защиты прав и свобод человека в глобализирующемся мире / А. Е. Епифанов, В. М. Абдрашитов // Материалы конференций, проходивших в рамках «Недели науки МЭСИ» : сб. науч. тр. - М. : [б. и.], 2012. - С. 435-441.
- Ковлер, А. И. Антропология права / А. И. Ковлер. - М. : НОРМА, 2002. - 480 с.
- Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 270 с.
- Хабермас, Ю. Вовлечение другого : очерки политической теории / Ю. Хабермас. - СПб. : Наука, 2008. - 415 с.
- Access to Sex Reassignment Surgery. - URL: https.//fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements-concerning-rights-child-eu/access-sex-reassignment-surgery.
- Dr Hilary Cass Has Submitted Her Final Report and Recommendations to NHS England in Her Role as Chair of the Independent Review of Gender Identity Services for Children and Young People. - URL: https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/.
- European Academy of Paediatrics Statement on the Clinical Management of Children and Adolescents with Gender Dysphoria. - URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10875134/.
- Gender-Affirming Care Is Dangerous. I Know Because I Helped Pioneer It. - URL: https://www.thefp.com/p/gender-affirming-care-dangerous-finland-doctor.
- Quincy Bell and Mrs A against The Tavistock Clinic and Portman NHS Trust. - URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-Tavistock-Judgment.pdf.